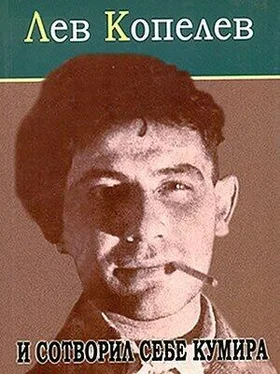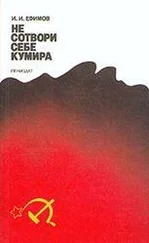Впрочем, новую стоическую решимость облегчила давняя любовь к Шиллеру, Гете, Гейне, Байрону, Диккенсу, Гюго, Твену и многим другим зарубежным поэтам и писателям. Мне не приходилось заставлять себя; корни этой науки никогда не казались мне горькими.
Летом 1934 года все военнообязанные студенты нашего курса стали на три месяца красноармейцами-бойцами 337-го стрелкового полка 80-й донбасской дивизии и проходили сбор в палаточном лагере на крутом берегу Азовского моря вблизи Мариуполя.
С не меньшим рвением, чем «Капитал», изучал я винтовку и пулемет, зубрил уставы. И тайно завидовал товарищам, которые быстрее меня бегали, дальше бросали гранату, лучше «работали» на спортивных снарядах, метче стреляли…
Командир моего отделения, тихий, но упрямый сельский паренек с литфака Грицько Гелеверя ежедневно в немногие свободные часы натаскивал отстающих — в том числе и меня — мы прыгали через «кобылу», швыряли деревянную гранату, утяжеленную свинчаткой, перебирались через отвесный забор, выламывались на брусьях.
Кормили нас плохо. Трижды в день каша из лежалой перловки. В обед суп из нее же и клочки жесткой солонины. Хлеб с закальцем и чаще всего черствый.
Не хватало воды. Умываться бежали повзводно к морю. И весь день донимала жажда — наждачно шершавая, удушливая.
К вечеру мы уставали до чугунного изнеможения.
Требовалось неистовое усилие, чтобы после ужина протащиться три сотни шагов вниз к морю умыться. Тепловатая соленая вода освежала не надолго. Обратно в лагерь взбирались веселей, но вскоре выдыхались и после бесконечной вечерней поверки — каждая минута казалась часом — не дожидаясь милого сигнала отбоя, который расшифровывали: «спа-ать, спать, по пала-аткам!» — сваливались на нары, на комкастые соломенные тюфяки и засыпали блаженно, густо, прочно. Иных не будил даже внезапный дождь. Только наш заботливый неутомимый отделком просыпался, опускал задранные «полы» палатки и на утро посмеивался:
— Колы б не командир, то вы бы як немовляты в записанных постелях спали.
Не реже одного раза в неделю нас будили ночью «по тревоге».
В толчее тесной палатки нужно было стремительно одеться, обуться — немыслимая задача правильно намотать портянки! — и ничего не забыв, ни скатки, ни противогаза, ни фляги, ни подсумка, ни лопатки, мчаться к бараку, где стояли винтовки и ручной пулемет отделения. Взять именно свое личное оружие. Потом обязательно всем взводом, всей ротой бежать на лужайку за лагерем, где полагалось строиться по тревоге. Там стояли командиры из штаба полка с часами и отмечали, в каком порядке и насколько быстро мы собирались и строились. Сперва наше отделение, а потом и взвод, хитро усовершенствовали готовность к тревогам. Все снаряжение мы на ночь привязывали к скатанной шинели, портянки засовывали в карманы штанов. Едва раздавался тревожный горн и крики дневальных «в ружье!», мы вскакивали мгновенно; бежали за винтовками в тесный барак не все, а трое-четверо самых сноровистых. Каждый брал на себя и на товарища. Другие тем временем наматывали портянки. Потом сменяли на ходу «оруженосцев», чтобы те успели переобуться…
После отбоя очередной тревоги, командир полка перед строем сказал:
— Сегодня первой была вторая рота студбата. Три минуты двадцать семь секунд. Объявляю благодарность всем бойцам и командирам роты.
Мы долго орали «ура» и я радовался и чувствовал, как радуются все, кто рядом, впереди, сзади — вокруг. Это была двойная радость — почти счастье от того, что мы первые, мы опередили, и от самого ощущения МЫ — от слитности, сопричастности, связанности всех нас — таких разных и таких похожих, одинаковых парней в пропотевших гимнастерках и тяжелых кирзовых сапогах. Мы, пахнувшие оружейным маслом и дешевыми папиросами, орущие дружно и лихо, были готовы хоть сейчас, сию минуту в любой поход, в смертельный бой…
Наша дивизия считалась самой «скороходной» в Красной Армии и нас ежедневно тренировали.
Утром после зарядки еще до завтрака весь полк пробегал не меньше двух километров. От лагеря до полигона — где стреляли боевыми патронами и штурмовали «полевой городок» было пять с лишним километров. Туда шли обычным шагом, но обратно «марш-броском». Ни в коем случае нельзя было бежать. Но «шире шаг и даешь темп, так, чтоб три шага в секунду!»
…Сердце колотится под самым кадыком. Горячий пот слепит, жжет. Сапоги и винтовка словно тяжелеют с каждым шагом. Рука, сжимающая ружейный ремень, затекает. И уже начинаешь ненавидеть командира роты — ему-то в хромовых сапожках легче; и никакого груза, кроме планшета; а как безжалостно частит: «Ать-два-три! Ать-два-три… Шире шаг!»
Читать дальше