Этого периода своей жизни, я, естественно не помню, но был он, наверное, счастливым и безмятежным, поскольку и в этой семье меня все любили и носились со мной как с писаной торбой. Сохранилось несколько фотографий, сделанных то ли в Урусове, то ли в деревне, присланных тетей Ниной маме в Москву, на которых изображен я с бабушкой и тетей Ниной, с надписью на оборотной стороне: «Валерочка шлет привет маме. 11 мая 1941 года».

Бабушка, тетя Нина и я. 11 мая 1941 года
В начале войны моя жизнь в деревне, наверное, тоже ничем не отличалась от довоенной, и родителям было даже спокойнее, что я там, но когда к концу лета стали поговаривать о том, что немцы могут дойти и до тульщины, мама приехала за мной. Недолго думая, дедушка выпросил в колхозе лошадь с подводой, и в один из дождливых августовских дней отвез нас с мамой в Венев, где посадил на поезд, шедший в Москву.
Немцы же, действительно, в конце осени дошли до нашей деревни и, хотя пробыли там сравнительно недолго, всего около двух недель, да и была-то обычная армейская часть, а не каратели, недобрую память о себе оставили надолго. Правда, виной тому были скорее не немецкие солдаты, а суровая русская природа, которая заставила их вырубить на дрова не только небольшую рощицу в окрестностях деревни, но и великолепный колхозный сад, который так больше никогда и не восстановили. Из моих родственников под немцем никто не пострадал, так как брать у них было нечего, а старенькая изба, крытая соломой, никого не привлекла даже для постоя.
Мы же с мамой тем временем, прожив в Москве около месяца и узнав, что такое бомбежки, затемнение и другие «прелести» приближающегося фронта, поехали вслед за папиной родней в эвакуацию. Челябинск, где приютились бабушка с дедушкой и двумя моими тетушками, встретил нас неприветливо – холодом и голодом первой военной суровой уральской зимы. К тому же, простудившись в дороге, я тяжело заболел и из-за температуры под сорок градусов, не приходил в сознание. Врач, которую вызвала бабушка, поставила двустороннее крупозное воспаление легких и больше не появлялась. Антибиотиков тогда никаких еще не было, и как мама с бабушкой меня выходили одному Богу известно, но где-то на вторую неделю температура начала немного спадать, и ко мне вернулось сознание. Рассказывали, что первыми словами, которые я, очнувшись, произнес, были: «Баба, а нету у нас чего-нибудь покушать?». Бабушка, услышав это, заплакала, схватила свою единственную пуховую шаль, побежала на рынок и выменяла ее на стакан риса. Через месяц, когда я уже начал основательно поправляться, появилась врач, чтобы узнать, когда умер ребенок. После такого вопроса моя бедная бабушка буквально спустила ее со второго этажа, сопровождая свои действия всеми известными в интеллигентной еврейской семье ругательствами.
Так, продавая вещи и подрабатывая какими-то кустарными промыслами, перебивалась вся большая семья. Мама на работу устроиться не смогла, поэтому, когда после моего выздоровления приехал кто-то от папы и предложил нам перебраться в Свердловск, она с удовольствием забрала меня и перекочевала туда, где нас приняли как официально эвакуированных. Маму взяли на работу, выдали рабочие карточки, а меня даже устроили в детский сад, что было неслыханным благом, поскольку там кормили значительно лучше, чем мама могла бы это сделать дома.
Детский сад я тоже запомнил на всю жизнь, и это практически второе мое собственное воспоминание, так же ярко запечатлевшееся в сознании, как первая московская бомбежка. А запомнился он мне, прежде всего, потому, что каждое утро меня отрывали от мамы. Это для меня было мучительно, я с нетерпением ждал окончания дня, когда за мной, наконец, придет моя мамочка. Относились там ко мне хорошо, но все мои мысли были только о том, сколько времени осталось до прихода мамы, а все, что давали детям по тем временам вкусного, оставлял для нее, будь то бублик или сухарик, которые она, конечно, скармливала дома мне же.
Между тем папа продолжал работать в Москве на той же Шаболовке. Неоднократные рапорты об отправке на фронт не помогали, несмотря на все танкистские специальности, которыми он обладал. Бухгалтер на производстве ракетных снарядов для «катюш» был, наверное, нужнее, чем танкист на фронте. К тому же там, где надо, не забыли еще о его судимости 1938 года. Папа в этой связи, видимо, основательно переживал, быть может, даже испытывал чувство вины перед окружающими, тем более что уже погиб его двоюродный брат Иосиф, пропал без вести мамин брат Спиря, с первых дней воевал его большой приятель, муж сестры, Саша. Объяснить причины, по которым не был на фронте, папа не мог даже близким, поскольку деятельность колонии осуществлялась в режиме строжайшей секретности. Между прочим, о том, что он работал на производстве ракетных снарядов, я узнал совсем недавно и совершенно случайно, когда отмечался какой-то юбилей ракетных войск.
Читать дальше
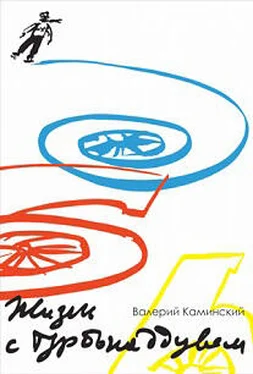



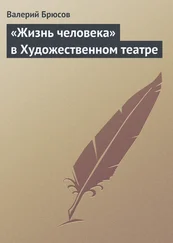




![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/414389/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy-thumb.webp)



