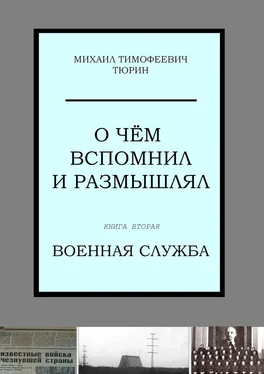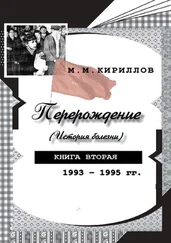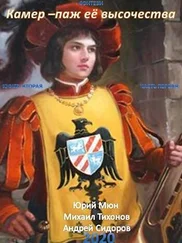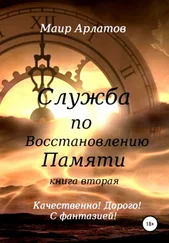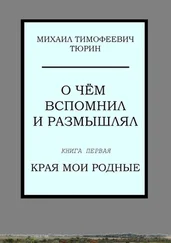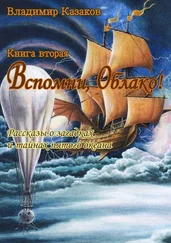1954 год. Первокурсники. В первом ряду слева направо: Л. Корбан, А. Башуров, М. Тюрин, во втором ряду: В. Гулаков, Э. Кузнецов
И теперь немного о «контингенте» будущих офицеров на примере нашей роты. Ребята приехали из многих областей Европейской части Советского Союза: из Волгограда В. Штоков и В. Перов, из Гусь-Хрустального – Ю. Бугров, из Брянской области – Г. Монченко, В. Пашковский, В. Зебницкий, В. Марченков, из Москвы – А. Дядюнов, Ю. Лизунов, из Рязанской области – П. Осенёв, И. Червяков, из Ленинграда – В. Гулаков, Э. Кузнецов, из солнечной Армении (из самого Еревана) – Л. Порошин. Но больше всего было ребят из белорусских деревень: Л. Корбан, Ф. Довнер, И. Шукан, А. Шренк и другие, многие из которых паровоз увидели впервые, когда ехали поступать в училище, а об электричестве понятия у них были примитивные, книжные. Конечно, я называю здесь только некоторые, наиболее запомнившиеся фамилии.
Среди курсантов были и парни из сравнительно обеспеченных семей. У Вовки Гулакова и Алика Дядюнова отцы были майорами, а у Генриха Кунцмана отец был начальником управления торговли (по словам Генриха) всего Ленинграда или Ленинградской области (запамятовал). Генрих был весьма неопрятным, с многочисленными крупными гнойными прыщами на лице и шее, зимой никогда не умывающимся из-за отсутствия тёплой воды, издающим очень неприятный специфический запах. Но зато у Генриха всегда были не только ленинградские конфеты, но и папиросы «Беломорканал» табачной фабрики имени Урицкого, очень в те годы популярные. Если мне не изменяет память, Генрих не выдержал «тягот и лишений» и был отчислен из училища. Был и ещё один легальный «иерусалимский казак» из Питера, некто Штокман, запомнившийся своей молчаливостью и ещё более сильным, чем у Кунцмана отталкивающим специфическим запахом тела.
Уникумом в нашем взводе был, конечно, Лёня Порошин. Родного отца у него не было, был отчим, а мать занимала очень высокий пост в министерстве финансов Армянской ССР. По каким-то соображениям, может быть для того, чтобы не мешал дома, они и определили Лёню в училище. Это был очень начитанный и грамотный парень, любивший и умевший довольно аргументированно разглагольствовать на любую тему, да так, что часто хотелось просто заткнуть ему рот или, по крайней мере, себе уши, чтобы не слышать этот непрерывно изливающийся, словно слюна, словесный поток. Учиться в училище он не хотел, военным стать не стремился, соблюдать воинские требования было для него сущим мучением. Лыжная подготовка в училище была обязательной, помимо плановых занятий, зимой почти каждое воскресенье устраивались гонки на 10 километров. Для южного человека, впервые увидевшего настоящий снег и лыжи в Гомеле, было, конечно, трудно пройти эти километры. Если Порошина ставили на лыжню, то весь взвод шёл и впереди и сзади, чтобы Лёня не потерялся. При полном нежелании Лёни двигаться на эту «увеселительную» прогулку уходило по три-четыре часа. Нам это было нужно? Дабы не ходить на занятия, а попасть в лазарет, Лёня среди ночи, как приведение, в одном нижнем белье и босиком, шёл на улицу и ложился где-нибудь за кустами на мокрую землю или на снег. Но, честное слово, ему редко удавалось простудиться и заболеть. Тогда он избирал тактику не отвечать на занятиях, демонстрируя, таким образом, своё полное безразличие к учёбе. В конце концов его на втором курсе отчислили из училища и направили в войска дослуживать до положенных в те годы трёх лет. По дошедшей до нас информации, тоже не выдержав «тягот и лишений», Лёня покончил с собой.
У нас, простых крестьянских и рабочих парней, возникал тогда неоднократно законный вопрос о целесообразности иметь среди офицеров Советской Армии такой балласт. К сожалению, среди курсантов была некоторая часть парней не только необразованных и «неокультуренных» из-за социальных условий, в которых они росли, но и откровенно, или, чаще всего, скрытно, вынашивающих свои приспособленческие понятия и устремления на будущую офицерскую службу и строивших в соответствии с этим свои отношения с однокурсниками. Был у нас в роте некто Лёвичев откуда-то с Северного Кавказа, сам по себе здоровый, губошлёпый, с презрительным выражением лица, трусливый и туповатый, но с явными бандитскими наклонностями к рукоприкладству. Был и Юра Швецов до хрипоты утверждавший, что правильно писать и говорить «бджёлы» вместо пчёлы как у них принято в ауле. Был и простоватый на вид, но иезуитски хитрый Илюша Шукан из белорусских лесов, были Ваня Червяков – необыкновенно скрытный, державшийся всегда особняком – никто и никогда не знал, куда он ходит в увольнение, с кем встречается, в отличие от большинства ребят, делившихся между собой всякой житейской информацией. Были, к великому сожалению, и просто мелкие воришки, тянувшие среди ночи у своих же однокурсников денежки из карманов. В этом плане запомнилась расправа над таким щипачём во 2-м взводе нашей роты. Фамилию этого негодяя, конечно, забыл, но помню подробности «воспитательного» процесса, проведенного заместителем командира взвода Борисом Виниченко, с которым у меня были довольно хорошие отношения. Высокий, стройный, развитый физически и интеллектуально, выпускник Суворовского училища, своим видом, решительным и обстоятельным поведением вызывал только уважение. После событий, описываемых здесь, я его зауважал ещё больше. Когда было однозначно установлено лицо воришки (поймали с поличным), Боря по команде никому докладывать не стал, а в один из вечеров, приведя взвод в учебный корпус на самоподготовку (наши классы для самоподготовки находились рядом), стал у двери, выключил свет и скомандовал «начинай». Курсанты потрудились «от души» и когда послышались глухие стоны, Боря включил свет, послал двух подчинённых за носилками, на которых и оттащили негодяя в лазарет. На следующий день Бориса разжаловали из сержантов, выговорили по комсомольской линии, но оставили в училище, а этого воришку после излечения дней через десять отчислили и отправили служить солдатом. Думаю, что командование и батальона и училища, несмотря на проявление самосуда, поступило совершенно правильно; по крайней мере, мы, курсанты, были в этом убеждены.
Читать дальше