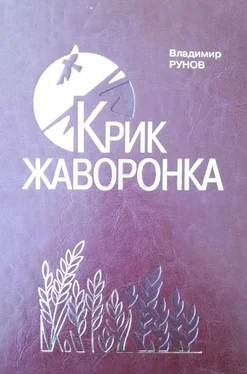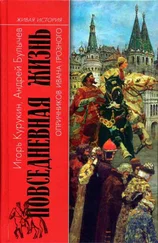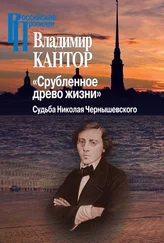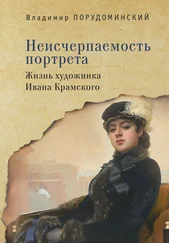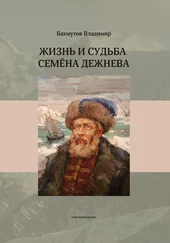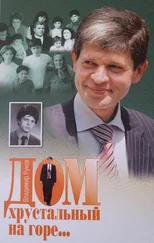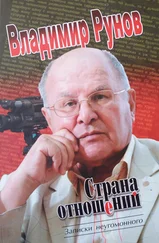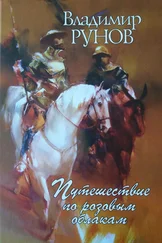Шкуринский курень основан в 1794 году наследниками запорожцев и назван в честь кошевого атамана Леско Шкуры, могучего до такой степени, что ладонью подгибал подковы под размер лошадиного копыта. Шкуринцы силу уважали, но и с казачьей вольницей, еще отдававшей запорожскими настроениями, тоже справлялись и числились как поселение, вполне управляемое. Когда Антон Головатый потребовал от куренных атаманов список поселенцев, то будущий круг быстро составил посемейное перечисление и покорно потянул из случайной папахи жребий на выбор месторасположения куреня.
Впоследствии долго славили атамана «свово» Герасима Филоненко за «легкую руку». Уж больно удачно у него все получилось – на самые рыбные места угодил. До моря недалече, да и Ея славилась многоводьем. Баркасы свободно ходили что вниз, что вверх. Сомы пудовые да раки, не помещавшиеся в две руки, – уловы почти рядовые. Так и встала прочно и надежно станица Шкуринская, имея в соседях братьев-казаков Кущевского, Кисляковского, Уманского куреней, скопом позже вошедших в Ейский отдел Кубанской области, что благополепно существовала почти шесть десятков лет, с 1860 по 1918 год.
Область охватывала территории от северной части Ейских лиманов до ледниковых глыб Главного Кавказского хребта, с населением, навечно присягнувшим царю-батюшке. Да вот с навечностью не получилось!..
Фамилия Трубилиных в том списке, что составлен по приказу верховного атамана Головатого, не значилась, поскольку предки были во втором списке переселенцев, бежавших из центра России на вольную Кубань от барского гнета. Но имена первопроходцев звучали, скорее, как прозвища, ставшие позже фамилиями: Федор Гладкий, Микола Соленый, Андрей Чабан, Трофим Чеснок, Тимофей Белый, Герасим Доля, Яков Ладан, Игнат Чайка, Андрей Сорока, а потом появилась целая куча Шевченков.
Когда Ванюшка (так часто звала мама) побежал в начальную школу (случилось это в 1939 год), то прозвища те (ставшие потом фамилиями) почти не значились в классном журнале. «Железная метла» Гражданской войны прошлась по вольной казачьей земле, вырывая с корнями даже память о тех, пред которыми надо бы снять шапку, помня, что их предки тащили первую целинную борозду и создавали основу, что побудило к восторгу даже такого искушенного впечатлениями человека, как замечательный русский писатель Александр Куприн.
Ваня оказался «последышем», то есть самым младшим в семье Тимофея и Анны Трубилиных. Появился на свет, когда отцу и матери исполнилось по 25 лет, они были одногодками и тоже родились в не очень спокойное для империи время, в 1905 году, когда кубанских казаков большим числом погнали на Русско-японскую войну, откуда они возвращались с георгиевскими крестами. Сражались, как всегда, отважно, да вот России с командованием не повезло. Войну проиграли, а многие под Мукденом так и полегли…
К рождению малыша детей в семье было уже двое: Машеньке – 4 года, Коле – 2. По крестьянским обычаям дети-погодки – дело привычное. Ребятня тогда сама друг друга воспитывает, да и с одежонкой попроще. Младшие донашивают то, что осталось от старшего.
Семилетняя Маша трехлетнего Ваню таскала на руках, пока родители заняты делом, и управлялась с этим замечательно. Знала, когда накормить, как уберечь от палящего солнца, проследить, чтобы младенческое любопытство не закончилось неприятностью, а главное – успокоить, когда Ванятка, испугавшись вороны на плетне, впадал в громогласный плачь.
Дети росли дружные, работящие, что, впрочем, было естественным для любой казачьей среды. Одна беда – обрушившийся на Кубань голод. Он пришелся как раз на время формирования семьи, и то, что в ней тогда обошлось без трагедий, скорее чудо, чем закономерная естественность – люди вымирали хуторами…
Только через много лет Иван Тимофеевич узнал, что пришлось преодолеть родителям, дабы семья не превратилась в прах, в гулкое забвение, что неодолимо входило в еще недавно процветавшие пространства, пораженные мертвой поступью всеохватного голода.
Коллективизация на Кубани шла туго, много сложнее, чем даже описанная Шолоховым в «Поднятой целине». Богатые станицы, как могли, сопротивлялись накату обобществления, нажитого трудом поколений. К тому же на те годы, как по законам зла, выпали несколько малоурожайных сезонов. Темпы хлебозаготовок не устраивали партию, прежде всего, конечно, Сталина.
Позже, когда «вождя народов» уже не стало, Тимофей Петрович потихоньку рассказал младшему сыну, чем таким был «закон о пяти колосках».
Читать дальше