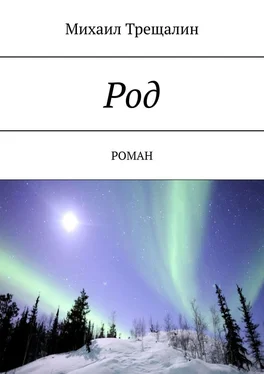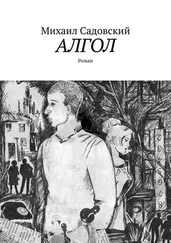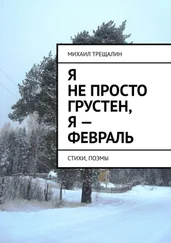Всюду солнце, прохладная прелесть свежего августовского утра. Бородатый мужик в армяке и полотняных штанах запрягает. Дворовый Федор носит и укладывает в коляску чемоданы, плетеные короба-сундучки, коробки и узлы. В столовой господа завтракают. Самовар поет, по скатерти пляшут солнечные блики. За столом все семейство: мать, отец, два сына – Коленька в гимнастической форме и младший Левушка в матросском костюме. Коленька строен, подтянут, выглядит старше своих девяти лет. Левушка, напротив, толстоват и немного неловок. Мама торопит: «Не болтайте попусту, сразу после завтрака в дорогу. Левушка, ну как ты держишь нож!»
Коленьке грустно оставлять деревню с ее забавами и шалостями и в тоже время не терпится в Петербург. Там много нового: гимназия, знакомства, книги, музыкальные занятия.
Позавтракали, засуетились, присели перед дорогой и, наконец, тронулись. Дорога известная: до Тулы – на лошадях часов пять-шесть, потом – поездом до Москвы, там остановка на день и снова вокзал, дорога, поезд. Новые люди, дорожные знакомства, полустанки и станции за окнами вагона. Паровоз тащит ровно, в окно нет-нет, да и пахнет горьковатым угольным дымом, и все дальше, дальше уходит земля подмосковная.
Большая станция. Коленька видит в окно зеленый одноэтажный вокзал: «Клин».
– Странное название, не правда ли, мама?
– Что ты, Коленька, Клин – известный русский городок. Ты разве никогда не читал о нем? – удивляется мама.
Коленька уже и не слышит. Он вспоминает, как Федор подле сарая за конюшней колет толстые березовые кругляки и то, что не поддается колуну, доламывает клином – маленьким кованым куском железа, забивая его в трещину обухом колуна. «Там клин – тут Клин. Любопытно, не правда ли?»
После короткой передышки поезд устремляется вперед, набирая скорость. Завтра Петербург.
***
Плавно катит Нева свинцово-серые воды, словно маслом омывая гранит набережной Васильевского острова. Над водами сфинксы глядят друг на друга, вжимаясь в камень постаментов и леденея на пронзительном ветру. Чужие они здесь. Им бы солнца и жара египетского, а не туч петербургских да ветра северного. Им холодно и неуютно на чужестранной набережной. Холодно и неуютно громоздящейся за ними каменной громаде Академии художеств.
Малолюдно. Разве извозчик редкий проскачет, да выбежит худенький студент с огромной папкой на ремне через плечо из парадного подъезда Академии, втянет голову в воротник, пробежит немного по набережной, прижимаясь к фасаду, и скроется за углом в Третьей линии.
Тут-то иначе: запутался ветер, убавился и в тоненьких струйках затих. Прохожий чуть-чуть улыбается, как будто слагается стих. И двор, и подъезд с колоннадой, и буйство левкой за стеклом роскошного зимнего сада в старинный манит тебя дом, в знакомую с детства квартиру с резными дверьми, где тайком по стенам шагают верблюды и клоуны, все в голубом. Где Беккер, как белые зубы, в улыбке раскрыл клавиш ряд, где идолы, может быть, Будды, пред книгами в шкафе стоят, где царствует мир и согласье, где музыка – живопись – жизнь всем проповедует счастье к искусству причастными жить. Здесь в доме №4 по третьей линии Васильевского острова, во втором этаже вот уже сто лет живет семейство Бруни, начиная от президента Академии художеств и ваяния Федора Антоновича Бруни. Здесь родились, выросли и обрели славу многие художники. Вот и отец Николая и Левушки, Александр Александрович, тоже художник-архитектор. Он спокоен характером, всегда уравновешен, очень трудолюбив и собран, редко его увидишь без дела. В его кабинете книги, книги, книги, и все так хороши, так интересны. Александр Александрович не сказать, что очень богат, но и не беден. Дом полон и хорош, для жизни удобен. Царит в нем дух возвышенный, дух прекрасного, дух искусства. Жена его, Анна Александровна, дочь художника и внучка известного акварелиста Петра Соколова, необычайно хороша собой и, в противовес супругу, порывиста и подвижна, переменчива во взглядах и увлечениях. Ее любят во многих гостиных Петербурга, да и в московских тоже.
В конце конов порыв увлек Анну Александровну настолько, что она оставила мужа и ушла к другому мужчине. Сыновья же остались в доме отца. Сохранился лишь светлый поток в памяти мальчиков, да в ранимой Колиной душе укрепилось противоречивое чувство обиды и любви к матери. Лева был ровнее характером, спокойнее Николая. Он не терзался уходом матери столь болезненно. Он рисовал, рисовал и становился с каждым рисунком ближе к тому удивительному Льву Александровичу Бруни, который написал акварельный натюрморт с красной рыбкой (4).
Читать дальше