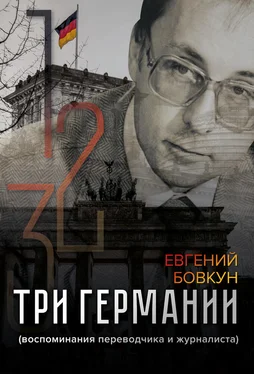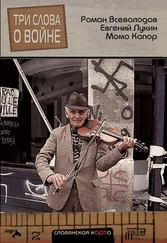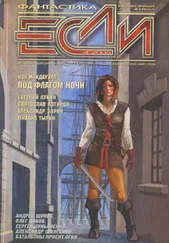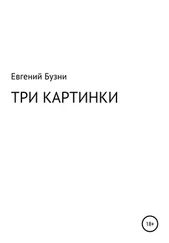Мамочка. Деревня на Волге.Мамин отец – Пётр Алексеевич Дёмин, потомственный московский рабочий, жил с родителями в Казицком переулке в квартире, окна которой выходили во двор Елисеевского магазина. Когда настали трудные времена, подался на заработки в Тульскую область. В деревне Хатунка приглянулась ему местная красавица. Он женился на ней, и вскоре родилась у них дочка Лизочка – моя мама. А потом умерли старики Дёмины, и Пётр Алексеевич по настоянию жены, которой хотелось жить в столице, перебрался в Москву. Семья увеличивалась – Алексей, Нина. Прокормить её становилось всё труднее. Пётр Дёмин, по профессии слесарь, вынужден был подрабатывать – чистить канализационные трубы. Заработал ревматизм. Не такой представляла себе жизнь молодая уроженка Хатунки. Поехала повидать родителей и бесследно исчезла. Мама слышала от отца такую легенду. На тульском направлении произошла железнодорожная катастрофа: оторвавшаяся одним концом длинная ручка вагона принялась косить пассажиров, повисших на ручках встречного поезда. Погибло много людей, но тела пропавшей среди них не нашли. На самом деле, думаю, было иначе. Она ушла от мужа, зная, что детей он не бросит. Тяжело приходилось. Единственной помощницей была старшая дочь – «его Лизок». Она и обед приготовит, и всех накормит, и в квартире приберёт, и ноги разотрёт, когда разыграется ревматизм, почитает вслух Лермонтова, да про уроки не забудет. А училась мама в школе, которую посещали дети художников и артистов и потомки благородных господ – Нина Голицына и Нина Шереметьева, подарившая маме в 1934 году свою фотографию «На память единственному дорогому другу – Лизику». Мама хорошо пела и танцевала, участвовала в самодеятельном ансамбле «Синеблузые», удостаивалась похвал педагога по рисованию (школа была с художественным уклоном), но за год до окончания пришлось её бросить, пойти работать: папа стал часто хворать и вскоре умер. На плечи её легла забота – кормить и воспитывать сестру и брата (тётю Нину и дядю Лёшу). К тому времени, когда тётя Нина поступила в институт, выбрав специальность гидролога, а дядя Лёша начал работать, высшее образование стало для неё недосягаемым. Утешением были книги, а поскольку дома условия для чтения оставляли желать лучшего, просиживала она с книжкой во дворе до темноты. Иногда с ней заговаривал пожилой господин из соседнего дома (сам Елисеев?) и, поражённый её начитанностью и культурной речью, стал дарить ей книги – дореволюционные издания классиков с иллюстрациями, защищёнными папиросной бумагой. Они хранились у нас до середины 60-х годов, затем постепенно исчезли. Мама охотно давала книги «почитать», но стеснялась попросить их вернуть. Благодаря чтению мама приобрела абсолютную грамотность. Окончив курсы машинисток, печатала вслепую с невероятной скоростью, без ошибок. Сначала в Главном картографическом управлении, подчинявшемся НКВД (ему же, как ни странно, подчинялись Загсы), затем в Генштабе, куда устроил её папа. Перед самой войной она работала в приёмной заместителя начальника Оперативного управления, комдива А. М. Василевского. А в 37-м, во время работы в картографическом управлении на Б. Полянке, стала свидетельницей странного случая. Засидевшись допоздна за машинкой, погасила свет, вышла в коридор, там было темно, и лишь под одной дверью – начальника отдела – светилась жёлтая полоска. Забыли погасить свет? Она решительно распахнула дверь. Хозяин кабинета стоял у стола и лихорадочно перебирал бумаги. Он обернулся на скрип открываемой двери, лицо его исказила гримаса ужаса, словно он увидел привидение. Мама тоже перепугалась, не помнила, как добралась домой. На следующий день узнала: начальника арестовали как врага народа. «Надо уходить оттуда», – сказал папа.
Личная жизнь матери.Папа появился в маминой жизни неожиданно. У неё было много поклонников, но он покорил её не столько внешностью, сколько необычайностью и решительностью поступков. Вернувшись из командировки на Дальний Восток, сказал: «Завтра идём в ЗАГС». Довоенные фотографии запечатлели счастливых родителей на отдыхе и весёлые застолья с друзьями. Тревожный 38-й год стал для них самым счастливым. Я потом удивлялся: как они могли радоваться, если знали, что будет большая война? А они знали. «Репетиции» были достаточно зловещими. Осенью 39-го папа ушёл на «войну с белофиннами» и, вернувшись, рассказывал, как белофинны минировали колодцы и как подорвался на мине молодой политрук, решив подобрать для своей дочери валявшуюся на дороге красивую куклу. Затем опять командировки: тот же Дальний Восток, Западня Украина, Прибалтика… После одной из них он сказал маме: «Будет война. Предстоит эвакуация». Но эвакуировали нас только осенью 41-го – в татарское село Теньки. Папа регулярно отправлял посылки, доходили не все. В некоторых мы обнаруживали битое стекло и куски кирпичей, но всё же изредка нам доставались сахар или банки с вареньем из моркови, которую я с тех пор возненавидел. По рассказам мамы я как-то умудрился достать и съесть за один присест месячную норму сахара, хранившегося в кульке под потолком – от тараканов. Она долго трясла меня за плечи, приговаривая: «Что же ты наделал!» Так она наказывала меня за проделки. Мы жили в доме у чудесной одинокой женщины, а еще мама подружилась с семьей Глазковых, у которых были дети подростки – Тамара и Слава. Мы сохранили с ними добрые отношения и после войны. Слава и Тамара переехали работать в Москву, заходили к нам на Ордынку, а мы бывали в гостях у их дяди на Пятницкой. Помню, он подарил мне книжку в красной обложке про штурм Перекопа, где многие слова были замазаны чёрной тушью. Мне удалось прочесть их на свет настольной лампы. Это были фамилии репрессированных военачальников. В Теньках группа эвакуированных организовала театр, и мама играла в спектаклях. А потом случился её грех. Возвращаясь из Казани на пароходе, она познакомилась с пассажиром, ставшим папой моего брата. Мама покаялась нам с Юркой лишь после развода, а после её смерти я случайно раскрыл чёрный эбонитовый футлярчик для хранения иголок. Я не выбросил его потому, что это была мамина вещь, практически единственная, не считая оставшихся книг. Там находилась скатанная в трубочку бумажка с биографическими данными красноармейца, направлявшегося в расположение своей части. Я не осудил бы отца, если бы он расстался с мамой сразу, узнав обо всём, но благодарен ему за то, что он сделал это спустя много лет, когда мы с Юркой стали взрослыми. И он никогда не сказал мне ни слова упрека за те три года после развода с мамой, когда я немного отдалился от него, поскольку считал, что обязан был в первую очередь поддержать более слабого, то есть мать. Не знаю, как я поступил бы на его месте. Послевоенные впечатления не оставляют у меня сомнений в том, что папино благородство не только имело под собой прочную моральную основу, но и продиктовано было любовью к маме, ко мне и Юрке. Очевидно, мама в силу обстоятельств не смогла этого оценить и перенесла всю любовь на детей. Но разве можно осуждать отца и мать за то, что в их отношениях разрушилась животворная связь, благодаря которой существуют семьи. Мама глубоко переживала разрыв, верила, что всё вернётся на круги своя. Она не приняла в расчёт семейную черту Бовкунов: решения мы долго вынашиваем в себе, но, будучи приняты, они становятся необратимыми. Я спрашивал брата: не хотел бы он разыскать настоящего отца. Он сказал: «Меня зовут Юрий Васильевич Бовкун, отец у меня есть и второй мне не нужен». Мама часто жаловалась на сердце, и мы отвезли её к платному кардиологу. Он рекомендовал поставить кардиостимулятор, назвав сумму, по тем временам значительную. А потом, пригласив меня в другой кабинет, спросил: «Вы действительно хотите, чтобы она ещё пожила?» и, увидев моё изумление, добавил: «А то, ведь, знаете, как бывает, не все так относятся к своим родителям». Я долго не мог оправиться от шока. Маме поставили импортный стимулятор. Но умерла она от инсульта у меня на руках. Чувство вины гложет меня до сих пор. Я упустил что-то важное, не успел для неё сделать всё, что хотел или мог. Не сохранил в памяти многое из того, что рассказывала она о себе, папе, родителях и друзьях.
Читать дальше