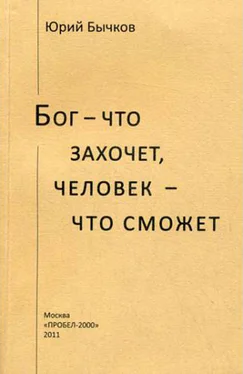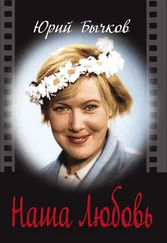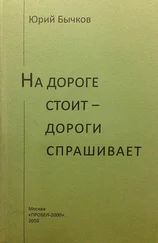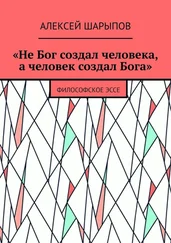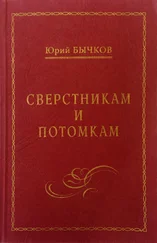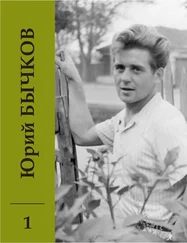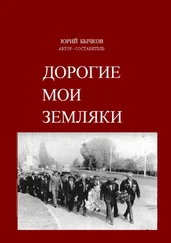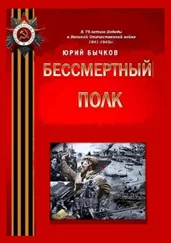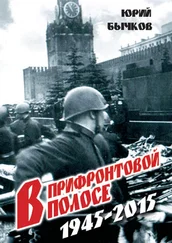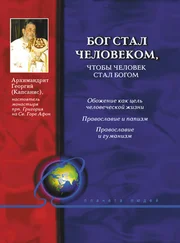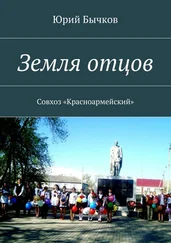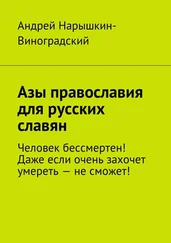…Ни картофельным полем, ни опытным участком не назовёшь клочок земли размером десять на десять метров, затеснённый со всех сторон заборами, кустами, дворовыми строениями. Картошку в этом году, предчувствуя жаркое лето, посадил 29 апреля в прогретую, а прежде напоенную талой водой (снег лежал в марте метровой толщины) и щедро политую ранними весенними дождями землю. Влаги, кажется, достаточно, в меру набрала земля-кормилица – наш криушкинский чернозём не липнул к лопате. Идеальные условия посадки картошки сулили ранний, добрый урожай.
С посадочным материалом затеял эксперимент. Впрочем, не велика, честно говоря, новость: шесть из двенадцати грядок-коротышек засадил разрезанными на две, а то и на три части клубнями средней величины, разрезанными так, чтобы глазки разошлись по частям картофелины равномерно. Замахнулся на такое, испробовав на вкус привозную орловскую (чернозёмную) картошку. Её брали на суп и жарево прямо из кузова КАМАЗа, вставшего на прикол вблизи нашего дома на юго-западе.
Крупные, породистые клубни отличной, домашней, сохранности так и просились в родственную, чернозёмную, криушкинскую землю.
Кстати сказать, отчего не задаться вопросом: «Откуда на взгорье над Плещеевым озером взялся чернозём?» Ответ, оказывается, не глубоко зарыт. Тридцать – сорок сантиметров культурного слоя позволяют доискаться ответа. В Криушкине земледелие ведётся, как о том свидетельствуют археологические исследования, издревле. Хлебопашцы угро-финского племени меря трудились здесь ещё полторы тысячи лет тому назад. Славянско-русское население проникает в Залесскую землю в девятом столетии. Сюда по Мсте-Мологе-Волге хлынул поток переселенцев с северо-запада, из районов новгородских земель. Славяне попадали на озеро Клещино (Плещеево) двумя путями: из Ярославского Поволжья через озеро Неро и прямо с Верхней Волги по Нерли Волжской. Оба эти пути как раз сходились в том месте, где находился мерянский посёлок на Александровой горе, где и возникает, видимо, в конце девятого века древнерусский раннегородской центр, получивший в летописях название Клещин; он становится опорным пунктом освоения славянами всего Залесского края.
Земледелие в параллель со скотоводством за полторы тысячи лет и превратили глинозёмы и суглинки в плодородные чернозёмы. Конский да коровий навоз – драгоценное удобрение, в нём все мыслимые элементы питания почвы. Века трудничества земледельцев, язычников и православных, на криушкинском угоре сделали своё дело – обратили глину и суглинок в исключительной ценности плодородную землю.
В мае тепло, дожди – картошка на двадцатый день взошла, сильная, решительная. Божья благодать с небес погнала ботву ввысь, и картофель, никогда раньше такого не бывало, в мае зацвёл. Каждый уик-энд я спешил в Криушкино и тетёшкал радующие сердце картофельные грядки – окучивал, пропалывал, избавлял от объявившихся в первые жаркие дни колорадских жуков огрызок криушкинского чернозёма.
Высказался: «Огрызок!» Да, огрызок, но какой ценный! Последние годы картошкой с этого «огрызка» весь дачный период питается семья, приезжающие в гости родные и знакомые.
Пока официально через Троицкий сельсовет за нами не закрепили все тридцать соток усадьбы Ширшиковых, обходились землёй, непосредственно окружавшей дом с подворьем. Здесь и развели первоначально порядочный огород. На этом пространстве в своё время располагался с посевом огородных культур, включая капусту, которую солили и квасили на зиму бочками, рачительный хозяин, наш предшественник, Фёдор Ширшиков. Какой славный, трудолюбивый человек – мастер на все руки, талантливый плотник, выстроивший полдеревни. Хозяин. По сей день чувствуется его присутствие в рубленной руками большого мастера избе, просторном и ладно выстроенном заедино с домом хозяйственном дворе. Вечная память ему творениям рук его, а душе Фёдора Ширшикова в Божьих угодьях пусть будет радостно всегда!
В двадцать девятом его кобылу Зорьку (старший сын, Андрей Фёдорович, рассказывая мне историю семьи, упомянул кличку лошади) свели на колхозную конюшню. Подарок судьбы то, что Фёдор, пока лошадь была при нём, успел построить дом с двором для всех хозяйственных надобностей. Отменного качества крестьянская постройка! На причелине Фёдор Иванович выжег раскалённым кованым гвоздём: «1928 год». Изба и по северному обычаю под единой крышей с ней столь же добротно выстроенный двор со стойлами, хлевами и закутами для живности стоит, не покосившись, не шелохнувшись, восемьдесят с лишком лет. Знатная работа высококлассного плотника! В Криушкине произносят «мы плотники», с ударением на последнем слоге. Не ради шика это так делается, а как признак самостоятельности местного говора.
Читать дальше