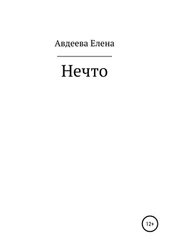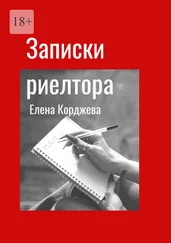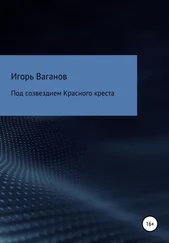1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 Пульмонологическое отделение (бронхиальная астма)
Врачом пульмонологического отделения я проработала 2 года, и эта небольшая часть моей жизни вспоминается мне как самая интересная и продуктивная. В те годы у нас сложился замечательный коллектив единомышленников: заведующая отделением Елена Федоровна Соловьева, второй врач – ординатор Антонина Ивановна Гусева и бронхолог Ольга Викторовна Бондаренко. Мы были все примерно одного возраста, работали «в команде», делясь в ординаторской своими размышлениями о больных и учась друг у друга. Для нас было не вопросом задержаться в отделении, если нужно. Впрочем, мы и так никогда не уходили вовремя: работы хватало, больные были тяжёлые, со всего края, т. к. отделение тогда имело статус Краевого Пульмонологического Центра.
Отделение состояло из 60 коек, на которых лечились больные, в первую очередь с бронхиальной астмой различной степени тяжести, осложнёнными пневмониями и абсцессами легких; достаточно много было больных с обструктивными бронхитами (по современной терминологии ХОБЛ); значительно реже встречались пациенты с диссеминированными процессами и другой более редкой патологией. Ну и, поскольку это всё же была «рыбацкая больница», благосостояние которой зависело во многом от организаций, связанных с рыболовством, здесь же лечились и «рыбаки» с обычными пневмониями и бронхитами, которые нуждались в госпитализации, иногда больше по социальным показаниям (жили на судах либо в общежитиях).
Вокруг бронхиальной астмы (БА) в 70-е годы, особенно, во второй их половине, развёртывались поистине драматические события. Если раньше студентам преподносили эту болезнь как «страдание, при котором пациенты долго мучаются, но не умирают», то теперь ситуация изменилась. Прежде всего, на смену теофедрину, эуфиллину и астматолу, основным препаратам для купирования приступа астмы, пришли бета-адреностимуляторы (или симпатомиметики), в форме «карманных» ингаляторов – такие, как астмопент и его аналоги. Они были удобны в употреблении и позволяли быстро достичь эффекта. Но одновременно всё чаще стали регистрироваться астматические статусы, в том числе, с летальным исходом. Оказалось, что между этими двумя событиями существует причинно-следственная связь. В Ленинградском институте пульмонологии под руководством профессора Федосеева Г. Б. был расшифрован конкретный механизм спазма бронхов и мелких сосудов. В общих чертах на уровне знаний того времени это выглядело так. Состояние гладких мышц регулируется внутриклеточным соотношением мононуклеотидов – циклического аденозинмононуклеотида (цАМФ) и циклического гуанозинмононуклеотида (цГМФ). Повышение содержания цАМФ вызывало стимуляцию бета-адренергических рецепторов и расслабление гладкой мускулатуры бронхов и мелких сосудов, в то время, как повышение цГМФ, активировало альфа-адренорецепторы и, напротив приводило к бронхоспазму, и, соответственно, к приступу удушья.
Так вот, бета-адреностимуляторы первого поколения обладали значительным влиянием и на альфа-рецепторы, которое проявлялось только при уменьшении количества их антагонистов, бета-рецепторов, или их угнетении. При частом употреблении ингаляторов (свыше 5 раз в сутки, а больные, чувствуя снижение эффекта, использовали порой весь баллончик за 1–2 дня) возникало резкое угнетение, вплоть до блокады, бета-рецепторов, и развивался так называемый «синдром рикошета». При этом каждое последующее употребление ингалятора стимулировало альфа-рецепторы, развивавшийся при этом спазм бронхов при одновременном нарушении секреции мокроты (выделялась только её вязкая часть) переходил в их обструкцию – «синдром запирания». Отсюда – острая дыхательная недостаточность, диффузный цианоз, гипоксия мозга, а за счёт гиперстимуляции альфа-рецепторов сосудистой системы – тахикардия и аритмия. Вот это и был астматический статус , требовавший экстренных и специфических мероприятий на каждой из трёх его стадий. Последняя стадия – кома с отсутствием сознания и плохим прогнозом. Как правило, астматический статус развивался на протяжении нескольких часов и даже суток, но в отдельных случаях тотальный бронхоспазм возникал очень быстро, т. е. выделялся и вариант самой страшной «молниеносной комы».
Два таких случая, произошедших с относительно небольшим интервалом во времени (печально знакомый медикам «закон парных случаев») до сих пор стоят у меня перед глазами. Я не была лечащим врачом этих больных, но как уже писала, врачи пульмонологического отделения работали «в команде», и в ординаторской разговор шёл, преимущественно, о наших больных. Прошло уже около 40 лет, я не помню фамилий этих больных, но их лица и обстоятельства гибели навсегда врезались в память. Оба были молодыми (в возрасте 30–40 лет) образованными и симпатичными мужчинами.
Читать дальше
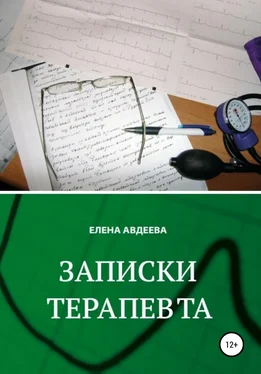
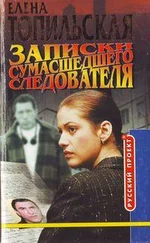

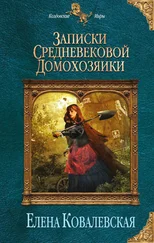

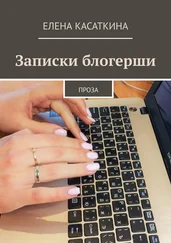
![Ирэн Шейко - Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги [АСТ, 2019]](/books/430335/iren-shejko-elena-obrazcova-zapiski-v-puti-dialog-thumb.webp)