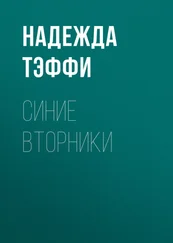Солнце уже посылало свои живительные лучи на землю, от реки поднимался белый пар, дым от костра уходил в небо. Висевший над огнём котелок уютно булькал, над ним колдовал отец, посылая в варево то крупно нарезанный лук, то горошины перца, то листик лавра…
Я сидела на низко срезанном пеньке и жадно впитывала глазами, ноздрями, ушами картину рассвета над Томью. Тихие всплески медленно текущей реки, её запах, запахи костра, рыбы, специй – всё было ново и остро волновало. Обоняние в моей жизни играет толчковую роль в воспроизведении кадров старой киноленты: стоит мне уловить знакомый запах, как тотчас начинают выплывать из памяти далёкие образы и сами собой разворачиваются в, казалось бы, давно забытые картины…
* * *
Я была папиной дочкой, а Лёлька (Ольга) – маминой. Мать называла её Лельча (с ударением на последнем слоге), а меня – большуха, хотя мы были погодками. Её она без конца жулькала, а меня – иногда, по ошибке: одевали нас одинаково.
Для папы я была Надюшка, и его любовь к нам выражалась по-другому.
Во-первых, он страшно заботился о нашем здоровье: всё время подставлял ладонь к окнам, проверяя, не дует ли; строго следил за тем, чтобы в доме никогда не переводился рыбий жир, и каждое утро (вспоминаю об этом содроганием) мы с сестрой должны были хлебнуть по столовой ложке этой гадости и запить (слава богу!) капустным рассолом…
Сколько мы с Лёлькой ни приносили домой кошек и котят, отец тайком от нас выбрасывал их. Мы плакали, горевали, но в этом случае разжалобить его было невозможно – глисты!
От простуды главным средством у нас считалась редька. Из неё вырезалась сердцевина, её место засыпали сахарным песком, редька обильно выделяла сок – этот сок (столовая ложка перед едой) и компресс из тёртой редьки на спину лучше всего изгоняли кашель и простуду.
У отца были свои гастрономические причуды: помидоры он ел только с сахаром, любил также обвалять в сахаре кусочек масла, положить в рот и, блаженно сощурившись, как кот, ждать, когда он там растает. Нас он тоже пытался приобщить к такому «гурманству» – помидоры в сахаре мы ели, но глотать масло отказывались…
Наш отец был фронтовик (Волховский фронт – самый гиблый из фронтов), сам нахлебавшись под завязку лиха, холода и голода, он хотел уберечь нас от всех напастей…
* * *
Иногда отец брал меня с собой в мастерскую, в ту, что находилась в подвале Дворца металлургов. В подвальной мастерской было полно белых и желтоватых упругих древесных стружек, пахло древесиной и пылью.
Мы с сестрой обыгрывали всё, что только попадалось под руку, – и стружки годились для этого как нельзя лучше. На втором месте после стружек был соскобленный со стен набел: мать раз в год белила комнаты, и перед тем, как начать побелку, она соскребала вздутия со стен и потолков.
Эти пластины сухой извёстки, древесные стружки, хвоя, осыпавшаяся с новогодней ёлки, – всё служило нам товаром для игры в магазин:
-– Вам полкило пастилы? Вот, пожалуйста… (извёстка)
-– Килограмм сахарного песку? Берите больше! Сахар отличный! С вас три рубля… (хвоя)
-– Макароны? Есть, конечно, есть! Рожки, ракушки – закрученные стружки…
Широкими, размеренными движениями отец строгал доску – из под его рубанка выходили всё новые и новые спирали и кольца. Они падали с верстака – я собирала и тащила их в свою сокровищницу…
Здесь, в этой мастерской, отец делал мебель на заказ: шифоньеры и трюмо. Изготовление такой мебели в одиночку – процесс трудоёмкий и длительный, поэтому он редко прибегал к такому способу решения финансовых проблем. Чаще всего он копировал «Неизвестную» Крамского и отдавал кому-нибудь продать картину на рынке.
Повзрослев, я поняла, что на этом портрете был запечатлён его идеал женской красоты: все избранницы, о которых я слышала, а кое-кого и лицезрела, начиная с матери, были брюнетками, но ближе всех к его идеалу приблизилась … ну да, кто же ещё?.. конечно, я!!
Больших денег эти копии принести не могли…
У отца была возможность иметь постоянную прибыль. В пятидесятые годы огромным спросом пользовались нарисованные на загрунтованной дерюге настенные ковры с расхожим сюжетом: озеро, пара лебедей, мечтательная барышня на берегу. Сейчас подобная живопись называется лубком, а тогда звалась ширпотребом. Уважающий себя художник не мог оскорбить свою кисть таким убогим малеваньем: подобные «ковры» не подпадали под категорию искусства – отец не хотел ронять себя в собственных глазах и в глазах товарищей по цеху.
Читать дальше