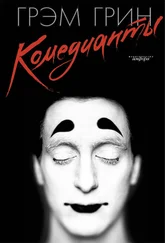Было очевидно, что его воспоминания разительно отличаются от моих.
— А что стало с Картером?
— Работал в управлении связи и умер.
Я сказал:
— Когда я вернусь из Малакки…
И в задумчивости вышел из магазина.
Встреча вышла совсем не такой, как я себе представлял. По пути в гостиницу я размышлял, начал бы я писать или нет, если бы не Уотсон и покойный Картер, если бы не те годы унижений, которые вселили в меня неукротимое желание доказать, что я чего-то стою, сколько бы времени это ни заняло. Нужно ли мне было благодарить за это Уотсона или наоборот? Я вспомнил еще одну старую мечту: стать консулом в средиземноморской стране; чтобы ее осуществить, я даже успешно прошел собеседование. Если бы не Уотсон… Но Уотсон тревожил меня недолго: по приезде в Малакку я напрочь о нем забыл.
И лишь много месяцев спустя, когда я уехал из Малайи, как полагал, навсегда, я вспомнил, что так и не позвонил ему, не сходил посмотреть, как он играет в поло, не предался совместным воспоминаниям о трех неразлучных друзьях. То, что я забыл его так легко, возможно и было моей неосознанной местью. Приподняв камень в очередной раз, я увидел, что под ним ничего нет [4] Часть жизни. Гл. 3.
.
Глава четвертая
О пользе психоанализа
Еще больше Картера-Уилера и многих лет унижений угнетало Грэма в школьной жизни то, что он назовет впоследствии «существованием при диктатуре, постоянными бесчестьем, безответственностью и несправедливостью». А еще — «беспросветной монотонностью существования». Восемь семестров из тринадцати (с короткими перерывами на каникулы) «депрессивный подросток» продержался, с трудом перенес «сто четыре недели однообразия, унижений и душевной боли», а потом — сорвался. Не помогло даже решение отца отпускать сына на воскресенье домой. И не только не помогло, но еще больше осложнило его отношения с соучениками, которые лишь утвердились во мнении, что Грэм — осведомитель Чарльза Генри, иначе бы принципиальный отец ни за что не пошел сыну навстречу. И задались старыми, как мир, риторическими вопросами: «Почему ему можно, а нам нельзя?» и «Чем мы хуже?»
В результате директорский сынок проводит в школе времени все меньше, а в овраге за чтением все больше. Налицо все признаки того, что сегодня психиатры назвали бы «индогенной депрессией»: отсутствие интереса к окружающему и окружающим, нарастающее чувство своей никчемности, мания преследования, сопровождающаяся бредовыми измышлениями. Однажды, перед сном, Грэм пытается, чтобы не ходить на занятия, разрезать себе перочинным ножом колено — но не хватило духу, да и нож оказался тупым. После чего следует череда самоубийств. Один раз, забравшись в темную кладовую возле шкафа с бельем, выпивает фиксаж в полной уверенности, что он ядовит. В другой — опустошает бутылочку с микстурой от сенной лихорадки. Поскольку в ней было немного кокаина, суицидент не только не покончил счеты с жизнью, но даже воспрянул духом. Правда, ненадолго: спустя некоторое время сначала отведал пучок белладонны, собранной на лугу, а потом проглотил двадцать таблеток аспирина. После чего для пущей верности забрался в воду в пустой школьной купальне: «До сих пор помню странное ощущение, будто плыву через вату».
И, наконец, за день до начала осенних занятий, убедившись, что лишиться жизни не так-то просто, кладет на черный дубовый буфет под графин с виски письмо, где ставит родителям ультиматум. Или они дают ему свободу, или он спрячется в лесу за пустырем Берхэмстед-коммон, где спустя три года, обнаружив в шкафу револьвер старшего брата, будет играть в русскую рулетку. И не выйдет из леса до тех пор, пока не получит гарантии, что в свою тюрьму (так и написал — «тюрьму») он больше не вернется. Выдержал бы характер юный борец за свободу, неизвестно, ибо по дороге в лес он встретил свою старшую сестру Молли, которая вместе с подругой отправилась на его поиски. Мог бы, конечно, убежать, но «это не вязалось с бесстрашием моего протеста», и был возвращен домой.
И, совершенно неожиданно для себя, одержал победу: родители отнеслись к побегу со всей серьезностью, куда большей, чем беглец мог ожидать, осознали — быть может, впервые в жизни, — что их сын близок к нервному срыву и что он и в самом деле может исчезнуть из города или, чего доброго, покончить с собой. Испугались не на шутку — и не только за Грэма, но и за себя. Ведь если бы юноша лишил себя жизни или его пришлось бы искать с помощью полиции, в крошечном Берхэмстеде эта история стала бы притчей во языцех. И, очень может статься, Чарльзу Генри пришлось бы оставить свой пост, причем со скандалом. Узнав, что Грэм убежал из дома, Чарльз Генри, помешанный, как мы знаем, на подростковых «сексуальных отклонениях», в первый момент решил, что сын подвергся гомосексуальному домогательству. Отчего встревожился еще больше, строго-настрого запретил домочадцам обращаться в полицию и, не найдись Грэм так быстро, провел бы в школе всестороннее и тщательное расследование — благо добровольных осведомителей у него хватало.
Читать дальше