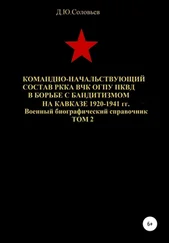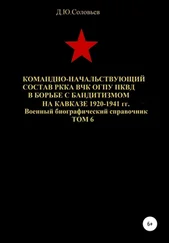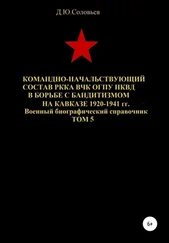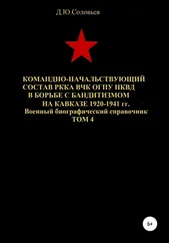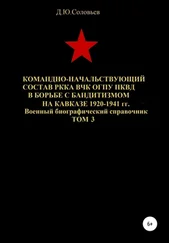В своём выступлении Хрущёв основной упор сделал на то, что Берия пытался провести разграничение между партийной и государственной властями, ограничить влияние партийных органов только кадровыми вопросами и таким образом «вообще хотел уничтожить партию». Отказ от принципа партийного руководства — это бериевская ересь. Партийным секретарём много было сказано об угрозе, постоянно исходившей от МВД, для партийно-советского руководства всех уровней, о фактической неподконтрольности представителей МВД в центре и на местах. В изображении Хрущёва Берия оказался виноватым почти во всех трудностях, имевшихся в СССР, — от политических процессов и проблем внешних отношений до запущенного состояния сельского хозяйства и плохого обеспечения картошкой жителей городов. Именно Хрущёв начал списывать на одного Берию все репрессии, что весьма успешно продолжилось затем в течение десятилетий. А уж какими только эпитетами эмоциональный Никита Сергеевич не награждал своего поверженного соратника: прохвост, провокатор, агент империализма, правда, умный, но хитрый и вероломный.
В последующих выступлениях Молотова, Кагановича, Андреева и других участников пленума, полностью поддержавших двуумвират Маленкова-Хрущёва, бедный Лаврентий Павлович получил самые несусветные имена: интриган, предатель, карьерист, авантюрист, шпион, антигосударственный преступник, фашистский заговорщик, враг, хотевший восстановить власть для реставрации капитализма и т. п. Берия, говорилось в выступлении Андреева, «начал дискредитировать имя товарища Сталина, наводить тень на величайшего человека после Ленина. Он делал это сознательно, чтобы имя товарища Сталина похоронить и чтобы легче прийти к власти». Высшие руководители партии провозгласили себя преемниками Сталина.
Из всех многочисленных прегрешений Лаврентия Павловича не вспомнили только «ленинградское дело». Потом уже, в декабре 1953 года, на суде приписали виновность в нём одному Берии, действуя по принципу: это всё он, мы ни в чём не виноваты!
По предложению Хрущёва участники пленума послушно, не проявляя ненужного любопытства, «пересмотрели и исправили вопрос о восстановлении т. Игнатьева (бывшего министра госбезопасности. — Ю.Б.) в правах члена ЦК КПСС». Тем самым был реабилитирован один из партийных исполнителейбезумных репрессий. Игнатьева перевели на работу в Башкирию первым секретарём ЦК автономной республики.
В целом по итогам партийной дискуссии можно заключить, что в соперничестве за власть верх отчетливо стал брать Хрущёв [Л.49].
Но этого было мало. Самое главное— началась кампания по дискредитации Берии, обеспечивавшая превращение в умах всех людей бывшего товарища по партии и государственного руководителя в интригана, карьериста, авантюриста, отщепенца, извращенца, предателя, врага, шпиона и т. д. Заодно Берия был объявлен агентом английской Интеллид-женс сервис, завербованным ею ещё в 1918 году. (У Лаврентия Павловича, вроде бы, действительно была собственная разведывательная агентура, для большей конспирации не зарегистрированная ни в каких картотеках госбезопасности. Об этом писали и Серго Берия, и газета «Совершенно секретно», а в книге Л. Васильевой [Л.44] вообще рассказано о необычайной встрече автора с бывшим бериевским тайным женщиной-агентом.) Среди обвинений фигурировало даже смехотворное утверждение об организации «антисоветской заговорщической группы в целях захвата власти и восстановления господства буржуазии». Для пущей важности приписали, что при амнистии из тюрем специально выпустили уголовников, чтобы использовать их для захвата власти.
В войска для разъяснения случившегося поехали непосредственные технические исполнители ареста Берии маршалы Жуков, Конев, Москаленко. Московский военный округ просвещал гражданский маршал Булганин, всецело преданный Хрущёву. По всей стране понеслась мутная волна пленумов, активов, собраний, митингов, на которых, не давая слова обвиняемой стороне,озлобленный мерзкой жизнью и постоянной несправедливостью народ клеймил позором и требовал прибить, как собаку, того, чьё имя кинули ему на растерзание.
Глава 33. Управление внутренних дел Ленинградской области
Вернёмся к началу марта 1953 года, чтобы на фоне теперь известных нам исторических событий посмотреть, почему и как после смерти Сталина происходили некоторые преобразования в объединённом МВД-МГБ, касавшиеся в том числе и моего отца Н.К. Богданова, тогда ещё заместителя министра внутренних дел СССР.
Читать дальше

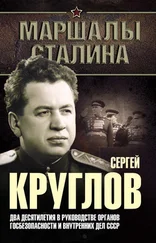
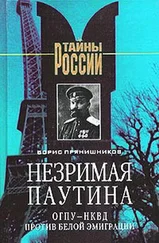


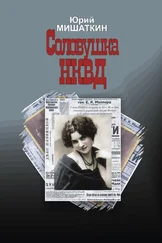
![Юрий Богданов - Министр сталинских строек [10 лет во главе МВД]](/books/427796/yurij-bogdanov-ministr-stalinskih-stroek-10-let-vo-thumb.webp)