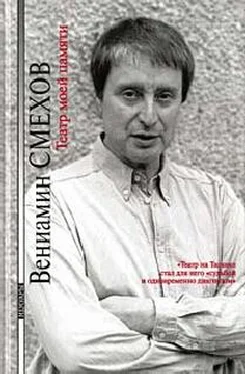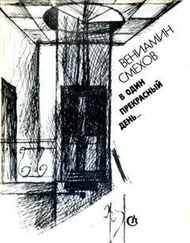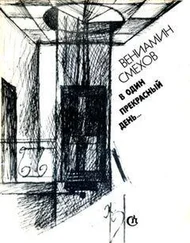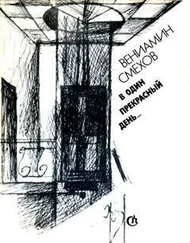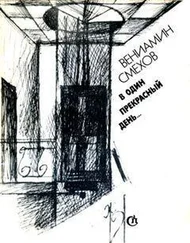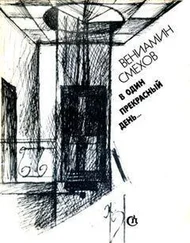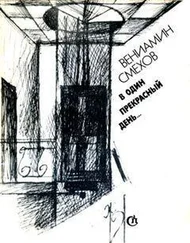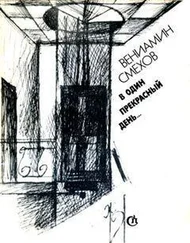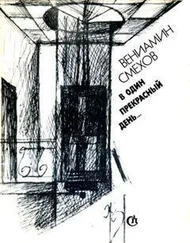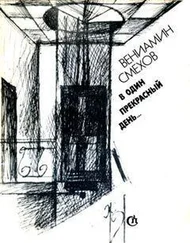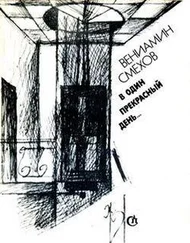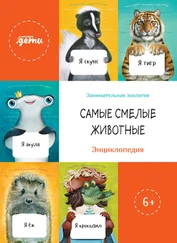Я: Хорошо у нас в Стране Советов…
Высоцкий (нервно перебивая) : Можно жить?!
Я (уклончиво) : Работать можно… дружно…
И так далее. Публика, само собой, почти рыдала от хохота.
В "Мастере и Маргарите" подтексты шли густо – и общечеловеческие, и узкоместные.
Воланд (разглядывая ярко освещенных зрителей) : Неужели среди москвичей есть мошенники?
От Автора (артист Семенов, комментируя гримасу Сокова) : «Кривая улыбка буфетчика отмела сомнения – да, среди москвичей есть мошенники». (Интонация и гримаса вызывают реакцию особого злорадства публики к привилегированным мошенникам)…
– А дьявола тоже нет? – спрашиваю я у Ивана.
– Нету никакого дьявола!.. Перестаньте вы психовать!
– Ну, уж это положительно интересно! Так, стало быть, так-таки и нету? (Тут я, притворяясь разгневанным, подымался во весь рост и обращался дальше к залу.) Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!
Последнее восклицание производило взрывной эффект с 1977 по 1992 год – пока магазины были пусты и народ не мог ничего купить, а мог только "доставать"…
Изменилась реакция и на знаменитую сцену любимовского спектакля, когда Воланд читает лист сожженной рукописи Мастера. Сцена сделана очень красиво. После слов "Рукописи не горят" звучат первые такты марша из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева, и под эту музыку, широким жестом, я отделял лист за листом и швырял их вверх. Листы взлетали. Музыка ликовала. Занавес «дышал» под руками восхищенной свиты и под крики Маргариты: "Вот она, рукопись! Вот она!.."
Картина вызывала бурные реакции в течение многих лет. В 1989 году, восстанавливая спектакль, Ю.П. сократил его – и справедливо – минут на сорок и из трех актов оставил два. Раньше после сцены "Рукописи не горят" следовали антракт и третье действие. Теперь, когда сразу за этим мы продолжали разговор Воланда с Мастером и Маргаритой, реакции убавились. Впрочем, и время изменило многие реакции.
К сожалению, время не избавило зрителей от страхов и опасности. Так что, не знаю, как у других актеров, но у меня сквозь все времена и правления, кроме сатирического, сохранился главный подтекст. Подтекст благодарности Богу – за счастье обоих чудес: и выхода книги, и выпуска спектакля.
Выхода книги – на сто лет раньше самого уверенного прогноза одного из первых читателей романа: "Конечно, о печатании не может быть и речи. Идеология романа – жуткая, и ее не скроешь… В этом отношении, чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда останется гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно пройти 50-100 лет…"
Так написал Павел Попов, друг и биограф М.А.Булгакова, в письме к Елене Сергеевне.
В апреле 2000 года, по приглашению славянского отделения Гарвардского университета в Бостоне, я сделал большой доклад о романе и спектакле "Мастер и Маргарита". На эту же тему были мои выступления в двух других американских вузах, в том числе в Маунт Холиок Колледже, где работал Иосиф Бродский…
После доклада о «Мастере» и Воланде студенты и преподаватели славянского отделения задавали вопросы. О школе Станиславского на территории Гарвардского университета. О диктате режиссера в театре и менталитете Любимова как диктатора. О Владимире Высоцком – играл ли он в "Мастере". И какие были рецензии на спектакль "Таганки"…
На три последних вопроса отвечу на этих страницах.
Юрий Петрович как создатель своей школы театра – лицо уже историческое. Его шедевры и неудачи описаны в книгах на многих языках. Его диктат, по-моему, есть часть метода, в котором главным достоинством спектакля является синтез искусств. Его восторг перед "Вестсайдской историей" Л.Бернстайна стал стартом режиссерской жизни в начале 60-х годов. Чтобы организовать драматический спектакль в жестких рамках мюзикла или балета, необходима твердая рука режиссера. Диктаторы-режиссеры, по распространенному домыслу, – это Мейерхольд или Любимов. На самом деле суровой требовательностью к исполнению рисунка роли обладали и обладают почти все настоящие режиссеры. Я был свидетелем того, как Анатолий Эфрос в лучших своих работах, Петр Фоменко или Анатолий Васильев – знаменитые и разные режиссеры – вели себя на репетициях не менее строго, чем "легендарный диктатор" Ю.Любимов. Вообще говоря, театр в Божьем мире – это единственное место, где абсолютная монархия является благом и объективной необходимостью.
Читать дальше