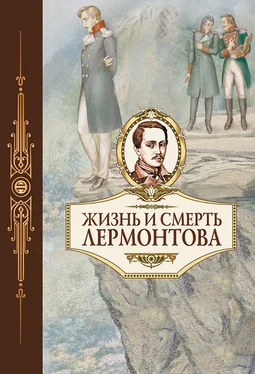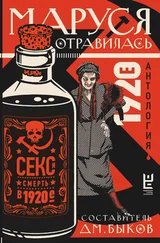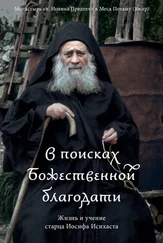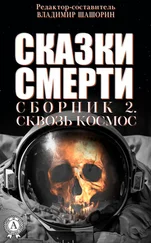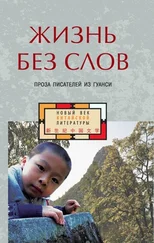Но вот тут возникает еще один вопрос: почему же всем другим бумагам из архива Мартынова, в том числе и его незаконченным воспоминаниям о поэте, пришлось ждать публикации в «Русском архиве» еще долгих восемь лет? Неужели же родственникам Мартынова не хотелось побыстрее «реабилитировать» его и они попытались сделать это только в 1893 году, уже после выхода в свет в 1891 году первой фундаментальной биографии поэта П. Висковатова, где солидное место было отведено Васильчикову и его воспоминаниям, и сенсационных статей П. Мартьянова в 1892 году и год спустя его книги «Дела и люди века»? Мы не будем строить догадки, но вот одна любопытная деталь: князь Д. Оболенский, автор публикации бумаг Мартынова, наотрез отказался показать их Мартьянову, у которого был, что называется, нюх на литературные мистификации особенно там, где это касалось биографии и творчества Лермонтова. Оставим пока загадку бумаг Мартынова – она еще ждет своего исследователя – и посмотрим, чем же закончилась заочная ожесточенная полемика между Мартыновым и князем Васильчиковым.
В 1875 году Мартынов умирает, так и не сумев при жизни печатно отомстить своему врагу. А вскоре Васильчиков делает сенсационное признание «для потомства и истории» П. Висковатову, пояснив при этом, что «…в печать проскочило кое-что из сведений не в пользу Лермонтова», и поэтому он больше «…не считает себя обязанным молчать, и что поведение Мартынова снимает с него необходимость щадить его».
Князь был человеком умным и дальновидным и прекрасно понимал, что после всего случившегося между ним и Мартыновым и вслед за вмешательством прессы ему выгоднее поведать маститому биографу близкую к истине версию дуэльных событий. В противном случае всегда отыщутся «очевидцы» и проворный журналист, которые быстро заполнят легендами и мифами эту лакуну.
И все же Васильчиков – он скончался в 1881 году – не был до конца откровенным и не решился из предосторожности раскрыть ту тайну, что связывала секундантов с Мартыновым. Он только весьма прозрачно намекнул Висковатову на два преступления, которые они утаили от суда, а потом пытались всеми силами скрыть от общественного мнения и упорно хотели переложить друг на друга. Здесь мы и предложим читателю обещанную ранее догадку, а для этого необходимо восстановить подробности роковой дуэли. Но прежде чем приступить к этому, поясним, почему мы воспользуемся в основном воспоминаниями князя Васильчикова.
Увы, как это ни прискорбно признать, но все иные свидетельства о дуэли и с юридической, и следственной точек зрения сомнительны и противоречивы. По ним хорошо писать романы и повести, а не вырабатывать версии. В большинстве своем – это письма современников поэта с пересказом из вторых и третьих рук слухов и домыслов, бытовавших в тогдашнем обществе, или же сообщения разных лиц (либо со ссылками на таковых) из пятигорского окружения Лермонтова, пристрастных, разумеется, в своем отношении к поэту. Сразу же после дуэли «водяное общество» разделилось на два противоположных лагеря: одни – их было большинство – резко порицали Мартынова, другие – не менее горячо его оправдывали, и подобное «противостояние» не могло не породить самых противоречивых мнений, которые кругами расходились по России и порождали уже вовсе нелепые, но устойчивые мифы и «предания». К тому же некоторые воспоминания появлялись на свет много лет спустя после событий 1841 года, вслед за статьями Васильчикова, Мартьянова, Висковатова, и время, естественно, внесло свои коррективы в оценки и суждения их авторов.

Лезгинка. Рисунок М. Ю. Лермонтова
Как было бы просто нарисовать совершенно неуязвимую от критики картину поединка, сопоставив воспоминания всех его участников. Но, увы, Глебов, Столыпин и Трубецкой не оставили нам ни единой строчки. Конечно, не каждый образованный человек середины XIX века доверял свои мысли, сомнения, переживания дневнику или испытывал неодолимую потребность к писанию мемуаров, но такое объяснение вряд ли будет в данном случае убедительным. Ладно бы секунданты, но и их родственники хранили по поводу дуэли совершенное и красноречивое молчание, которое еще ждет своего осмысления. Ведь взять вот Мартынова: он так и не решился поверить бумаге историю ссоры и дуэли, но щедро зато делился «воспоминаниями» о минувшем со своими родными и доверенными людьми. Впрочем, все они оказали Мартынову плохую посмертную услугу: в повествованиях господ Бейтлинга из Ардатова и Пирожкова из Ярославля, которые были напечатаны в журнале «Нива» в 1885 году, и в рассказе сына Мартынова – он появился в 1898 году и не в «Русском архиве», а в каком-то «Русском обозрении»! – подробности поединка настолько баснословно различны, что у любого непредвзятого читателя исчезают последние сомнения относительно «искренности» Мартынова и его услужливых посредников. Впрочем, во всех своих рассказах Мартынов продолжал твердить одно: что, мол, «приятели раздули ссору», сами назначили жестокие условия дуэли, Лермонтов в него целил, а он «вспылил» и спустил курок – «ни секундантами, ни дуэлями не шутят…» Но оставим Мартынова и перенесемся в прошлое, в летний вечер 15 июля 1841 года…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу