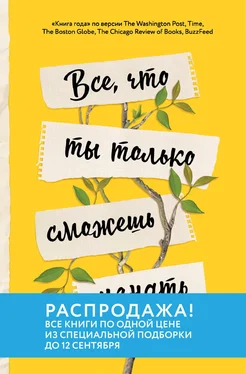В октябре моего предпоследнего года обучения, когда Дэн решил познакомиться с моими родителями, я вся извелась от тревоги: помнится, у меня возникло иррациональное убеждение, что он не сможет понять их или найти с ними общий язык, каким бы великодушным и добрым он ни был. Когда он спросил меня, почему я так в этом уверена, я сумела придумать только один ответ: « Мы просто такие разные!» Типичная стыдливость, то самое архетипическое «Боже, как вы меня позорите», знакомое любому подростку, уступило место менее мучительному, но все равно четкому пониманию, что мы с родителями – противоположности во всех мыслимых и немыслимых смыслах, от внешности и до образов мышления. Они вели себя скорее не как мои родители, а как сверстники; всегда говорили мне, что я слишком много работаю, слишком много думаю, слишком много переживаю. «Мы на самом-то деле не были готовы к такому ребенку, как ты», – сказала однажды моя мать. Что-то, о чем она, возможно, пожалела бы, будь у нее привычка сомневаться в своих словах.
Однако даже без такого откровения я бы это поняла. Я всегда чувствовала себя обожаемой, но все равно явно чуждой пришелицей в семье. Я знала, что другие люди не всегда нас понимают. И разумеется, мое удочерение, очевидное объяснение этому, всегда было под рукой, но я никак не могла заставить себя заговорить о нем – даже с Дэном. Оно казалось мелочным и неправильным, словно я возлагала вину на людей, которым я должна была быть благодарна. Я по-прежнему хотела, чтобы наша семья вписывалась в категорию «нормальных», что бы это ни значило, и поэтому наши различия – и то, каким образом я вошла в семью своих родителей, – не должны были иметь значения. Ни для кого из тех, с кем мы встречались. И безусловно, для меня тоже.
Теперь же, услышав вопрос «вы из-за этого переживали?» от людей, которые мне нравились, людей, которые хотели стать родителями так же, как хотели мои, я еще не думала об их будущем ребенке; я хотела утешить их . Я видела сострадание и молчаливое одобрение в их глазах, обещание дружбы, сосущую тревогу, которую они не сумели скрыть полностью. Было в этих людях что-то такое, что попирало каждое безмолвное сомнение, каждый яростный оборонительный инстинкт, который у меня когда-либо появлялся в отношении собственной семьи. Передо мной сидели двое потенциальных родителей, готовых поверить в усыновление – а следовательно, в более широком смысле, в благость и правильность моего собственного воспитания. Как могла я объяснить им, каково это было? Как могла дать понять, что мое присутствие в своей семье, особенно в городке, где я выросла, часто казалось мне абсурдом? Как могла я сказать им, что их ребенок, возможно, будет чувствовать то же самое, каким бы любимым он ни был?
Эти люди не были моими родителями. Я это понимала. Но они казались прирожденными родителями, если такие на свете существуют; я видела, что их намерения были наилучшими. Они хотели ребенка достаточно сильно, чтобы открыться почти незнакомому человеку, стать беззащитными и честно изложить свои страхи. Их жажда завести ребенка, которого они будут любить, и надежда на исход ситуации в их пользу не могли не растрогать меня.
Хотя я чувствовала, что торможу, слишком долго обдумывая их вопрос, на самом деле эта пауза, вероятно, уложилась всего в пару вдохов. Я растянула уголки рта в улыбке. Попыталась излучать истинную теплоту, которую ощущала к ним, хотя мы только что познакомились. Подалась вперед, сидя на стуле, и сказала им: нет. Нет, никаких больших «проблем» не было. Я была любима. У меня все было хорошо. И у их ребенка тоже все будет хорошо.
Меня вознаградили двумя лучами счастья и облегчения, и я поймала себя на том, что улыбаюсь вопреки собственной воле. Я видела, что они не особенно удивились. Разумеется, у меня все было хорошо. Я же сижу сейчас здесь, с ними, разве нет? – здоровая, счастливая, адаптированная, только пару недель назад получившая диплом бакалавра, с помолвочным кольцом на пальчике. В моей жизни явно все сложилось отлично. И у их ребенка тоже все будет так же отлично. Вот что они хотели услышать все это время.
Я училась во втором или третьем классе, когда услышала первое расистское оскорбление.
Я поспорила с мальчиком на детской площадке – не помню, по какому поводу. Он назвал меня «уродкой», на что я чуточку обиделась, но это было одно из тех обобщенных оскорблений, которыми дети постоянно бросаются друг в друга. Если бы он на том и остановился, все могло бы остаться отдаленным смешным воспоминанием, детской перепалкой, похороненной в памяти вместе с десятками других подобных моментов.
Читать дальше