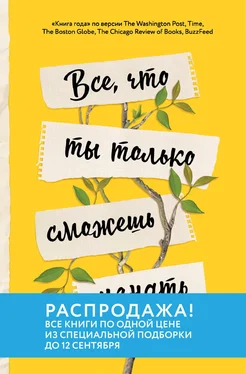И все же я, будучи полностью отлученной от своей культуры, не понимала, что значит быть кореянкой, да и могу ли я вообще по-настоящему зваться ею. Когда моя соседка по общежитию, американка корейского происхождения, называла меня «бананом», я прекрасно понимала, что это не комплимент, но ответить мне было нечего. Для меня Корея была всего лишь далекой страной, намного менее реальной, чем какая-нибудь фантазия, а моя собственная корейская семья существовала в альтернативной вселенной, которую я и представить себе не могла. Мне еще только предстояло определить место, которое удочерение занимало в моей жизни, и разобраться, что это значит для меня и что я должна об этом думать. И тогда, в мои двадцать два года, когда я сидела в столовой у своих новых друзей, истинное, пожалуй, более широкое понимание того, кто я есть, все еще брезжило где-то вдали, а я не могла до него дотянуться.
Я переводила взгляд с одной пары искренних глаз на другую, гадая, как мне все это им объяснить. Как я сюда попала? Как я стала голосом утешения для двух людей, собирающихся стать родителями? Я только-только окончила колледж. Мне все еще трудно было воспринимать себя как взрослого человека. Я понятия не имела, что требуется для того, чтобы воспитывать ребенка, не говоря уже о таком ребенке, чье лицо будет объявлять всем и каждому, что он родился не в их семье.
Мой родной городок расположился в пяти часах езды от Портленда, приютившись в долине с видом на три горных хребта. Уже много лет я, приезжая домой, исполняю один и тот же ритуал: выхожу из самолета и начинаю пересчитывать людей с небелым цветом кожи в маленьком аэропорту на один зал; часто такой оказываюсь одна я. Я прожила здесь восемнадцать лет, не увидев ни одного другого корейца.
Когда мы с родителями выходили из нашего маленького домика на Альма-драйв, на нас начинали оглядываться. « Где они тебя взяли?» – спрашивали люди в продуктовом магазине. Или на детской площадке: «Сколько за тебя заплатили?» Дети в школе желали знать, почему я на них не похожа. Учителя спотыкались на моей венгерской фамилии и смотрели озадаченно даже после того, как я их поправляла.
К чести родителей, они никогда не утаивали от меня факт удочерения – да и вряд ли это было возможно, как я полагаю. Я избежала судьбы предыдущих поколений приемных детей, которым часто рассказывали об этом факте биографии ближе к концу отрочества или когда они уже были взрослыми или не рассказывали вообще. Одна женщина, с которой я как-то познакомилась, сообщила мне, что не знала о своем удочерении, пока не стала подростком, – это перекликалось с теми историями, которые я слышала прежде. Она узнала об этом по чистой случайности: друзья и родственники были в курсе, и однажды кто-то проговорился.
Мои родители впервые рассказали мне об удочерении, когда я была еще слишком маленькой, чтобы запомнить этот момент. С годами постепенно добавлялись подробности, пока я не узнала почти все, что знали они. Как я не помню того дня, когда узнала, что меня удочерили, так не помню и момента осознания, что я практически единственная азиатка среди всех, кого знаю. Мне представляется, что я, должно быть, увидела другого ребенка-азиата в детском саду или в первом классе. Я уже понимала, что в моей семье никто на меня не похож. Собственно, как и во всем нашем районе, и в районе на другом конце городка, где жила моя бабушка. Но это не имело особого значения вплоть до того дня, когда я вошла в двери единственной в нашем городе католической школы, потому что я вообще очень мало знала о людях за пределами своей собственной семьи.
В подготовительном классе было около двух с половиной десятков детей, все до одного – белые. В утреннем кружке, на детской площадке, на церковных скамьях во время месс, в которых принимала участие вся школа, на собраниях, концертах и спортивных соревнованиях – везде было одно и то же: белые дети, белые родители, одно лицо за другим, и все до единого не похожи на меня. Должно быть, к пяти годам в моем словаре для самоопределения уже присутствовали слова «кореянка» и «азиатка», потому что я помню, как произносила их в школе. Возможно, у меня также было смутное, чисто визуальное понимание слова «белый». Но поскольку я никогда прежде ни с кем не разговаривала о расах, мне не удавалось связать вместе слова для описания того, что я видела – или не видела. Так же как не удавалось никому объяснить, почему это вдруг приобрело какое-то значение.
Читать дальше