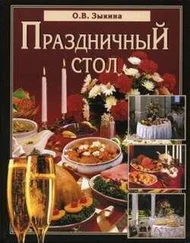1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 В 1984 году мы с мужем остались без жилья. Он вернулся в квартиру своей матери, а я уехала к родителям на Матвеевскую. Семейной жизнью мы жили по выходным, когда на полтора суток сбегали из Москвы на дачу в Заветы.
На даче тогда стоял домик, обозначенный на плане как кухня, с засыпными дощатыми стенами и потрескавшейся печкой. Летом в нем жили мои родители, а в остальные сезоны – мы с мужем. Зимой он гудел всеми ветрами и промерзал насквозь, но для нас это была единственная возможность побыть вдвоем.
Приезжали туда вечером в пятницу после работы и еще гуляли часа два-три по узким тропинкам соседних улиц среди высоких сугробов под светом экономных и нерегулярных дачных фонарей. Тем временем набитая дровами печка хоть как-то согревала ближайшие к ней кубометры нашего убежища. Тогда наступало время курицы, запеченной в той же печке и бутылки вина. К середине ночи тепло поднималось метра на полтора от пола, и потому можно было организовать гнездо из кучи матрасов, одеял и подушек, чтобы провалиться в сон до полудня следующего дня. Потом мы совершали еще одну прогулку, доедали курицу и возвращались в Москву.
Куриные косточки доставались меховой дворняге по имени Скамейка, прозванной так нами за широкую плоскую спинку, на которую хотелось невзначай присесть. Она появлялась, невесть откуда, как только мы отпирали калитку, и жила на нашем крыльце все время, пока мы были на даче. Она же сопровождала нас во всех прогулках.
Вот стих, написанный неожиданно по-немецки, который довольно точно передает состояние тех прогулок. Тогда я занималась немецким в какой-то группе, и мне часто снились немецкие сны.
Die lange Schatten auf dem Schnehe, das Sonnenlicht,
Ein rotes Pferd mit seinem Jeger, mit seiner Pflicht.
Mein Got, mein Hund, mein Shornsteinfeger, und ich 5.
Итак, я жила теперь на Матвеевской. Квартира родителей была трехкомнатной, но крошечной, как все в тех «хрущобах». Мне выделили в ней девятиметровую комнату, где я и поместилась со всеми своими книгами и картинами. Получилось нечто вроде купе с кроватью, затиснутой между шкафами и столом, сооруженным из книжных полок с положенной на них чертежной доской.
Матвеевская тогда была окраиной Москвы, а работала я в центре, на Садовом кольце. Ежедневная дорога на работу занимала полтора-два часа: две остановки автобусом до платформы, две остановки электричкой до Киевского вокзала, потом на метро до Маяковки, потом троллейбус до Садовой-Самотечной, плюс, ожидания в каждом пункте пересадок. Обратно, понятно, то же самое. Не понятно, как хватало энергии еще и на немецкую группу.
В электричках, особенно зимой, было мучительнее всего. На подъезде к городу народ в шубах уже давился и потел во всех проходах и тамбурах. Много раз с удивлением замечала, что, невольно слушая речь подмосковных жителей, не понимаю ее. Как будто мы говорили на разных языках. Они точно говорили по-русски, они матерились по-русски, но, кроме мата, я не понимала почти ни слова – не могла связать изредка мелькавшие смыслы. Не знаю, чему приписать это странное обстоятельство: своему невниманию или душевному смятению. Но это повторялось регулярно: я вслушивалась, пыталась вникнуть, и не понимала. Странно. Помню, что такая «дислексия» меня тогда изрядно угнетала.
Несмотря на все внешние трудности, я была почти счастлива. Во мне была ясность, как будто я понимала, зачем все это. Одно из больших удовольствий того периода – налаживание отношений с папой.
По жизни мы с отцом не очень-то ладили, часто ругались и спорили по любым вопросам до хрипоты. Наверное, мы были очень разными. Или, наоборот, слишком похожими. Но в этот, самый поздний, период наших отношений прошлые страсти вдруг улеглись, и мы вошли в состояние взаимного приятия и тихой нежности, немного грустной в предчувствии близкой разлуки.
Однажды папа попросил его подстричь. Он сидел посреди комнаты на стуле, закутанный в простыню, а я вертелась с ножницами вокруг, отстригая кусочки его седины. И вдруг почувствовала, что ему бесконечно приятны мои прикосновения, что он млеет, наслаждаясь таким нашим немым общением. Его чувство передалось мне, и я запомнила эту сцену как танец, в котором мы кружимся с ним, очень нежно и бережно обнимая друг друга.
Папа в тот период уже страдал старческой эпилепсией, мама то и дело вызывала «скорую», чтобы вывести его из судорог и удушья. Часто это начиналось рано утром. Однажды я проснулась на рассвете в своем купе, проснулась от маминого крика. Она звала меня, и я сразу поняла, что папе плохо. Вскочила, ринулась к двери, схватила ручку и дернула… Дернула, наверное, слишком сильно, потому что ручка осталась в моей руке, а на ее месте между двух картонных листов, раскрашенных под древесину, образовалась круглая дыра, и, сколько я не билась, не могла ни высадить, ни открыть эту чертову дверь. Звала маму, чтобы она повернула ручку с другой стороны, но ей было не до меня. Помню свое задыхающееся, трясущееся от бессилия, еще не проснувшееся тело, которое стучит и орет, колотясь о запертую дверь.
Читать дальше