Он вспоминал, как в детстве, после кори, когда еще жива была мать, он болел странной болезнью спинного хребта, и доктор говорил о дурной наследственности. С тех пор прошла беззаботная, пустая юность, не оставив после себя ничего. Теперь, когда он душой возвращался к музыке своего детства, вместе с музыкой возвращалась и болезнь, иногда державшая его часами на грани одинокого безумия.
Музыка его детства, Моцарт! В каком сиянии сейчас возвращался к нему его бог. Это было небо, спускавшееся к нему в русскую, будничную юдоль, где, правда, бывали и свои редкие праздники: возобновление “Руслана”, концерты в городской думе, вечерняя игра с Ларошем в четыре руки, “Рай и Пери” Шумана, перед которым он трепетал, и многое другое. Но то было небо, свет, слепивший и вызывавший слезы блаженства; и как он плакал! Больше всего в жизни он боялся, что эти слезы увидят другие и назовут его “институткой”. Ему и без того было тяжело слушать, когда говорили, что он женственен, – от бешеного смущения и обиды он готов был драться.
Но кипел он редко, и смирение было в нем природным. Он стоял опустив голову, когда Рубинштейн распекал его за “капитальное” летнее сочинение, “Грозу”, увертюру к драме Островского. Смирение было и при удаче “Танцев сенных девушек”, которыми дирижировал в Павловске Иоганн Штраус. Это был первый успех; публика, впрочем, не обратила на новое имя никакого внимания: один, два бранных отзыва в печати, и все. А затем он сам в Михайловском дворце продирижировал новой своей увертюрой, в F-dur, исполненной консерваторским оркестром.
То лето он провел у сестры в Каменке. Сестра стала напоминать ему мать. После юности, полной выездов, петербургского самолюбивого блеска, – одна беременность за другой, ключи от кладовых, хозяйственный, трудолюбивый муж, большое, когда-то великолепное имение. Теперь от той Каменки, где сорок лет назад сверкали легкомысленные пушкинские красавицы, где сам он бывал влюбленным и ветреным гостем, не осталось почти ничего: и дом был новый, и парк наполовину вырублен, и “местечко” появилось под боком. Пушкина помнила здесь свекровь Сашеньки да кое-кто из старой крепостной челяди, но праздный, веселый дух старины отлетел отсюда навеки. Со стола Давыдова не сходили счетные книги. Свекла, пшеница, лен – теперь все это требовало не только от мужика, но и от помещика трудового пота.
И после этой семейственной жизни Чайковский внезапно остался совершенно один: вернувшись в Петербург, он простился с отцом и братьями, они уезжали на зиму на Урал к старшей, к Зинаиде. Чайковский остался один, переселился в пустую квартиру Апухтина, уехавшего в Москву, и понял, что еще немного, и он станет маньяком: ему никто не был нужен, и он не был нужен никому. Денег не было, были долги; кто-то из прежних чиновных приятелей предложил ему место надзирателя за свежей провизией на Сенной площади… Он закрыл свои двери для всех. Сочинение шло туго, минутами казалось, что от строгостей Антона Григорьевича и недоверия окружающих есть одно спасение: департамент. Не вернуться ли?.. Он работал над нотными листами все ночи и отрывался от них в невыносимой тоске. Он был во всем мире один, неоткуда было ждать ни участия, ни помощи. Ларош приходил с ним играть, спорить о Шопене; а время шло, ему уже было двадцать пять лет, и ничего еще не было сделано.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Второе издание “Чайковского” по-французски вышло в 1987 г. в издательстве Actes Sud во Франции. В этом втором издании было помещено это мое предисловие, специально для того написанное. Оно повторено в голландском издании и войдет в будущем во все другие издания на иностранных языках.
“Видишь, миленький” (итал.) – ария Церлины из оперы В.А. Моцарта “Дон Жуан” (II д„№ 19).
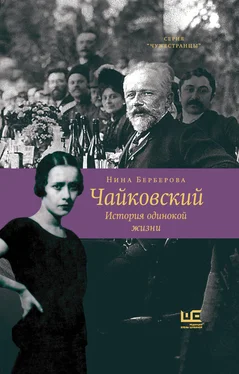





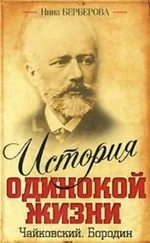
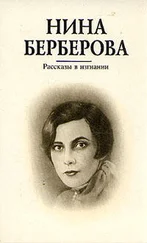

![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/432083/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni-thumb.webp)