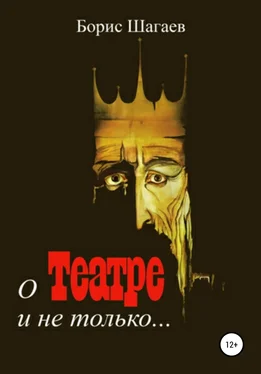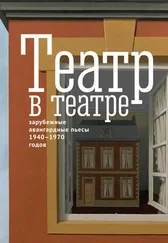И надо было мне больше расспрашивать о довоенном театре, об актерах, о республике тех годов. Она многое знала. Сейчас у меня желание с ней поговорить, но увы. Её нет. И я сейчас казню себя за это. Вину эту чувствую постоянно. Бессердечны, не любопытны мы к родителям. Мало теплоты, положительной энергетики даём своим близким. Всё мчимся в мнимую, мистическую, не разрешенную даль. А то, что рядом, не замечаем.
Когда приходил с работы, обед уже был готов. Она ставила еду на стол и ждала меня. Иногда звала. Когда я обедал, смотрела на меня и ловила удобного момента, чтобы спросить что-то. А я быстрее набросал в желудок пищу и из кухни. А мама остаётся голодной без информации, вопросов, ответов. Это мне, дураку, надо было выуживать из неё информацию.
Мы постоянно жили вдвоём. После того, как в 1942 году, при наступлении немцев, отец отправил нас в сторону Лагани, от него было ни слуху, ни духу. А когда реабилитация, он, узнав наш адрес, выслал нам деньги. Мама сразу купила мне велосипед. Пусть, мол, завидуют сельчане, что мы тоже не хухры-мухры. Народ нас зауважал, потому что реабилитация, а пацаны зауважали, потому что я давал им велик покататься. Калмыки собирались у нас. Организуют на радостях какой-то шмурдяк, выпьют и строят планы, костят Сталина, а до реабилитации ни-ни, опасно. А я все усекал и поэтому у меня такая «любовь» к нему. В 2014 году читаю в газете один соплеменник поёт аллилуйю Сталину, ну, думаю, есть и у нас «овца» с внутренней аномалией.
В Сибири, в деревенском сельпо, маму уважали, она никогда не жаловалась на жизнь, была всегда веселая, юморила. Есть сибирские фотографии, где она в центре снимка, сидит на стуле, а вокруг неё представители титульной нации.
А праздники работники сельпо отмечали в чайной. Все плясали и мама в фартуке пускалась в пляс. Все хохотали, хлопали в ладоши, подзадоривали, а я думал, что они смеются над ней и дергал за фартук скуля: «Мама, не надо! Мама, не надо! Они смеются над тобой!». Я не понимал её праздника души и сельчан. Это сейчас я понимаю, что народ и власть – это разные вещи. Местный народ, в целом, что-то поняли и были доброжелательны. Но были и другие редиски. К счастью, их было мало.
В деревне наши соплеменники работали в колхозе: то пастухи, то на разных работах. Их очень обижали, а они безропотно, молча, тянули лямку буден. Мама иногда просила помощи у председателя сельпо и сельсовета, чтобы к соплеменникам относились помилосерднее. Однажды председатель сельпо накричал на нее. Чего, мол, заступаешься за своих, а то и тебя загоним назад в колхоз. Прошло уже более 50 лет, этого председателя ненавижу до сих пор.
Пошли весной на колхозное поле с мамой собирать мерзлую картошку. Мы жили на окраине деревни, а колхозное картофельное поле метров 700. Я учился во 2–3 классе. Земля сырая, вязкая, обувка вся в грязи. Но голод и не до романтики и на обувку наплевать. И вдруг нарисовался откуда-то в бричке председатель колхоза Тырышкин. Мама и его хорошо знала. Он всегда смачно матерился на доярок, а сам их по одной окучивал. Все его боялись. В то время мат был разговорной речью. И народ, привыкший к такому обращению, считал это в порядке вещей. Это сейчас только пацанва гарцует по улице и лихо так, через каждое слово, мат. Свобода, раскрепощенность.
Председатель колхоза вышел из брички, подозвал нас. Грязь месить не захотел. Сапоги хромовые, солидолом намазанные. Мы перепуганные подошли к нему. Поймал на месте «преступления»
– Вы что, не знаете – собирать картошку нельзя! Или вы не знаете?
Мать молчит, а я тем более. Я до 1969 г. до «Ваньки Жукова» вообще не возникал. Это было уже рефлексом по отношению к представителям власти. Председатель говорил как на колхозном собрании. С выражением, с вкраплением каких-то партийных слов. То ли он тренировался перед выступлением с колхозниками, то ли напугать нас хотел. Я уже понимал, что мы «враги народа» и воруем стратегическое сырьё. Наносим урон государству. А председатель вытащил пучок соломы, бросил под ноги и почистил сапоги. Сапоги ему жалко, а что народ голодный ему по хрену.
А потом вдруг смягчился и говорит: «Вступай в колхоз. Сотки дадим. Будешь картошку садить». Мать молчит. «Ладно, идите к центру, там чего-нибудь найдете. А то будешь мыкаться в этом сельпо. Подумай, подумай». Хотел что-то сказать, но, видимо, истощился словарный запас, постучал плеткой по голенищам сапог, сел в кошёлку и уехал.
Я вот и сейчас думаю, почему не разрешали собирать мерзлую, вонючую картошку, колоски? Все равно сгниет. Или это была своеобразная забота о трудящихся? Или это глупость какого-то чиновника – партийца, который дал такую установку.
Читать дальше