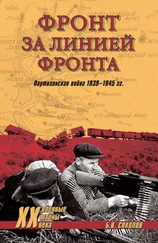Так гибнут дети революции.
Астрахань тягостна. Астрахань безнадежна.
Она лежит, как распаленный желтый камень, посреди разлившейся Волги. К городу над затопленными полями ведут узкие железнодорожные насыпи: золотистые нити в целом море мутной, соленой, беспокойной воды.
Пахнет морем, солнце жжет, и город, состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и пыли, пыли и зловония, развалин и пустырей, с трудом переводит дыхание.
Только ночью начинается жизнь. Лица, изнуренные лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны при электричестве в единственном парне, где редкие старые деревья кажутся черными, лесными. Посередине, в тени кленов, светится освещенный изнутри, большой стеклянный гроб, до краев полный цветами. Кажется, точно странные розы, лилии небывалых размеров, маки и левкои сами излучают сияние: это могила революционеров, гениальнейшая из всех, мною виденных до сих пор.
В солоноватой сыпучей пустыне, окружающей Астрахань, есть редкие оазисы: это старинные татарские сады.
Там цветет виноград, пахнет медом, вином и мятой. Ленивый вол, бесконечно вращая скрипучее первобытное сооружение, пригоняет воду из соленого болота к садам.
Белые розы так бледны и неподвижны и расточают тяжелое, драгоценное дыхание. Они напоминают о прохладном и низком, из засохшей глины вылепленном капище в степи, где на подножке из черного дерева царит азиатский божок, скрестив изысканно длинные ступни и ладони, и улыбается солнцу золотой улыбкой.
В зеленую шелковую траву с низко опущенных веток без шума надают персики; огненные помидоры на сухом стебле прекрасны и как-то слишком великолепны, как драгоценности, одетые с утра. А жаркие сливы – под их янтарной и сухой кожицей бродит разогретое вино.
Высоко в небе, над млеющими садами, слышно отдаленное гудение. Оно крепнет, но вокруг лепечет рай, и не хочется открывать глаз.
Это гудят пчелы в винограднике, это благовест зреющего лета.
И вдруг пробуждение: бросив гряды и шпалеры, сбегаются испуганные садовники, и все лица обращены к небу. Там из-за пушистого облака треугольником летят к городу три враждебные птицы, и на солнце при поворотах серебрятся их крылья, уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавающие крылья.
Навстречу трем низколетящим хищникам из-за леса поднимается наш неуклюжий, одинокий аэроплан. Он чувствует в своем нежном и неустойчивом механизме вредную, разъедающую «смесь», которая застревает в тончайших сосудах, дает перебои и ежеминутно грозит иссякнуть. Это безнадежный полет.
Летчик пренебрегает сенью волокнистых облаков, плывущих в воздушном море белым полуостровом, и прямо с земли, не кружась, но подымаясь круто и шумно, как воин в полном тяжелом вооружении, взбегает на вершину незримой воздушной горы.
Кто он, неизвестный летун, сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь героев внушает эту безрассудную, ни с чем не сравнимую прямоту его полету?
Там, внизу, лежит беззащитный город: он никого не мог вдохновить на подвиг своими грязными улицами и злым, ненужным людом, готовым задушить революцию и все красные побеги жизни.
И все-таки он подымается. Уже слышен в небе треск пулеметов, и немного выше неприятельских машин курятся белые клубки дыма: это с берега единственная пушка, медленно поворачивая циклопический глаз, нашла отдаленную цель и бросает в пространство смерть.
Они ушли. Они не выдержали этого неукоснительного сближения. Вон уже далеко блестят их чешуйчато-серебряные спины, и едва доносится враждебный гул. Широкой радостной дугой плывет домой наш аэро. Верно, сейчас лицо летчика под маской бело, и каждая его черта законченна и огромна, а глаза пристальны и блестящи, глаза давно исчезнувших воинственных птиц.
Где вышиты золотом осы, цветы и драконы…
Розовым пожаром заходит солнце.
Легкая арба быстро мчит к городу, где-то далеко остались сады и воздушная битва над ними. Мелкорослые и грязные, как бездомные собаки, плетутся к кремлю предместья. У дверей и ворот татарского квартала сидят важные старики в опрятных шелковых халатах и белых чулках. На их лицах розовый отблеск солнца, более древний, чем пурпур наших знамен. Они сидят и молча грезят, быть может, о старинных буддийских иконах, какие приносят из степных сел наши разведчики. Вот одна из них: на фоне, темно-зеленом, как чувственная и торжествующая южная весна, сияет розовый полукруг зари, и под сенью его, скрестив изысканно тонкие члены, восседает утреннее божество.
Читать дальше
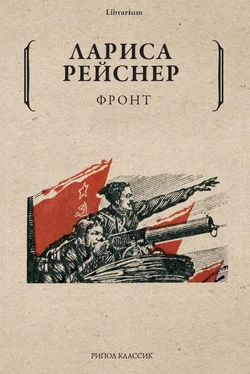

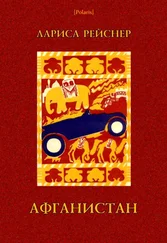





![Елена Майорова - В огне революции [Мария Спиридонова, Лариса Рейснер]](/books/400979/elena-majorova-v-ogne-revolyucii-mariya-spiridonova-thumb.webp)