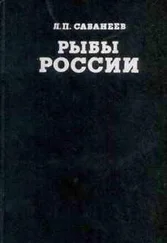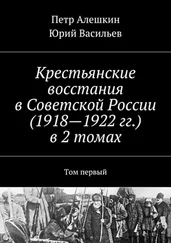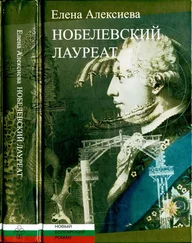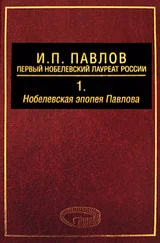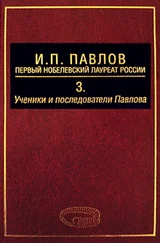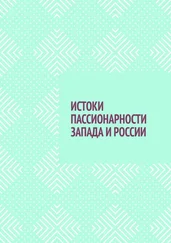Что мудреного, что деятельность молодого ума такая живая, страстная! Ведь он так мало знает, ведь для него так много нового, новое всегда, во всех областях человеческой души, имеет такую силу прельщать, возбуждать. Возьмите человека, какого ни на есть возраста и развития, обставьте его чем-нибудь новым, необыкновенным – он разахается от интереса, он засыплет вас вопросами: как, что, почему!
Что мудреного, что молодой человек стремится философствовать, все знать и все свести в систему! Это так естественно. Если действительно интересно знать, то почему же только это, а не то. Понятно, что подавай сюда все. Это смелое желание могло бы сдерживать, охлаждать только представление о бесконечной трудности задачи, о недостатке сил, средств, времени. Но молодому уму мир представляется таким маленьким! Он совсем не знает, как достаются человеческому уму истины, сколько их выработано, сколько остается их еще открыть. Оттого он с таким легким сердцем гуляет из одного конца вселенной в другой, как по саду.
Что мудреного, что молодой ум без предрассудков восприимчив! Предрассудки – это укоренившиеся мнения. У него таких нет. Он открыт для всех встречающихся идей, как магазин для всех покупателей.
Кто будет отрицать, что все сказанное сейчас правда! Это и есть дальнейшая характеристика молодого ума. На этот раз я не стараюсь моих положений подтвердить отдельными фактами и примерами. Во-первых, потому, что они и так часто приводятся пожившими для собственного утешения и для назидания молодых. А во-вторых, иначе я не кончу мои статьи через целые месяцы.
Ну что же следует из сопоставления первой и второй половины характеристики? Следует ли то, что обыкновенно следует. Действительно ли, раз прошла пора молодого возбуждения, разум бедного проскочил мимо сокровищ человеческой мысли, убедился в страшном труде, потребном для философского взгляда; действительно ли естественно, необходимо возвратиться к умственной деятельности человека: конец радостям и горю ума, интересу предмета человеческой мысли, философским стремлениям.
О, конечно нет. Все образумливающее время вовсе не требует этого. Объективно надобно помирить первую половину характеристики со второй. Это и есть – решить наши задачи о «критическом периоде» в умственной жизни человека. Пойдем дальше медленно, не спеша, потому что здесь главная важность.
Молодое возбуждение – возбуждение непременно временное, особенность только известного физиологического периода. По одному этому оно не может быть рекомендовано как нормальное состояние на всю жизнь. Вот что скажет прежде всего в свое утешение и защиту всякий, расквитавшийся с молодостью, практик. Иза него, по-видимому, говорит так много. Действительно, нужно согласиться, что часть энергии, живости, молодости – неизбежно временна.
На это указывает, во-первых, что подобное явление наблюдается и у животных. Этот занятный теперь медвежонок – любопытный, веселый, подвижный – со временем обращается в ленивого, равнодушного, неподвижного медведя. И нельзя же думать, что и у медведя это вышло вследствие каких-нибудь ошибок молодости, каких-нибудь несовершенств медвежьей цивилизации.
Это доказывают, во-вторых, постоянные завистливые взгляды на молодость, которые бросают на нее люди, кажется бы и не имеющие основания быть недовольными и своими поздними годами – всевозможные поэты и философы. Мне представляется, что здесь мы, действительно, имеем дело с одним из трагических моментов человеческой жизни. Я думаю, что многим эта тоска по необходимо временным радостям молодости стоит счастия всей остальной жизни. Интересно бы с этой целью перерыть повнимательнее поэтов и философов.
В этом отношении давно обратило на себя мое внимание одно из парижских писем Золя в «Вестнике Европы» 33 , где он пишет об Альфреде Мюссе 34 . Если не ошибаюсь, он приходит к такому заключению. Мюссе, как известно, обладавший большим поэтическим талантом, с годами почувствовал упадок его. Ему так трудно было расставаться с этим даром богов, что он стал употреблять разные искусственные средства для возбуждения: вино и т. д. – и кончил тем, что сгубил себя. Не происходит ли эта история в более обширных размерах? Не сюда ли хоть отчасти относятся Помяловские, Никитины 35 и т. д.? А может быть и некоторые из окружающих нас?
Где-то, у кого-то из поэтов или философов мне припоминается следующая фантазия. Какую-то душу, по приказанию бога, ангел привел к дверям рая, приотворил их – ив щелку дал этой Душе несколько полюбоваться тем, что делается в раю. А потом дверь захлопнулась – и Душа возвращена на землю. Но вид в щелку так запал в Душу, что она осталась с вечной тоской по раю – и все земное было бессильно развлечь, утешить ее. Не про рай ли молодости рассказана эта сказка?
Читать дальше
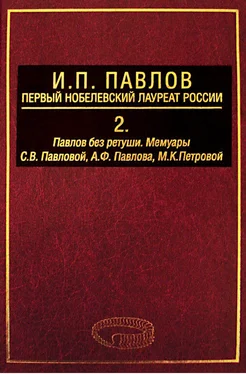

![Александр Войнов - Нобелевский лауреат по математике [СИ]](/books/89922/aleksandr-vojnov-nobelevskij-laureat-po-matematike-thumb.webp)