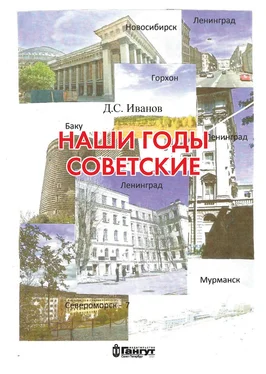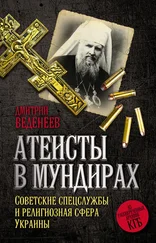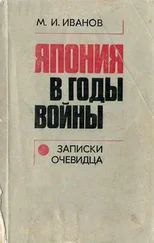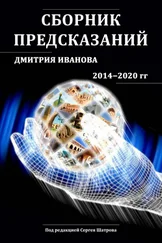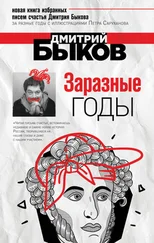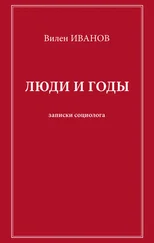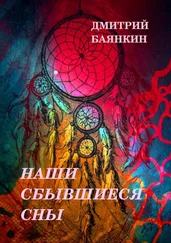Большая тетенька в белом халате зуб своими полными пальцами окончательно расшатала и вытащила.
С тех пор я старался на эту улицу не ходить, а если попадал, то переходил на другую от поликлиники сторону. Боялся я этого дома, за стеной которого была та самая необычно острая, как мне казалось, зубная боль – боль где-то рядом с тем местом, которое что-то соображает, а значит больнее и страшнее, чем все остальные возможные боли.
К другим ее видам я привык, этого у меня уже было немерено – то руку, то ногу поранишь, то в глаз в драке получишь, то осы искусают. Да, чего только не бывало. Подумаешь!
И все-таки, самым интересным местом в городе был вокзал и станция. Здесь всегда было много народа, но, главное, паровозы и составы, пассажирские и грузовые. Все это суетилось и двигалось.
В марках паровозов я уже понемногу разбирался. Были мощные паровозы ФД (Феликс Дзержинский) и ИС (Иосиф Сталин) – огромные, мощные, черные, стальные. Они пыхтели, выпускали острые струи пара и клубы дыма, таскали бесконечные грузовые составы. А еще, сравнительно небольшие пассажирские поезда. Здесь же паровозы ОВ («Овечки») и маленькие маневровые паровозики.
Поезда приходили и уходили, толпы пассажиров, то прибывали, то исчезали, то слонялись по платформам. Иногда из громкоговорителей раздавались женские голоса, как будто специально неразборчиво что-то долго говорили – это делались объявления для пассажиров.
Тогда толпы отъезжающих или встречающих останавливались как вкопанные и чего-то ждали, открыв рты и пытаясь понять, о чем идет речь. Потом все вместе срывались со своих мест и куда-то мчались, сгибаясь под тяжестями своих чемоданов и мешков. Смешные были картинки.
А еще здесь, на платформах, тетеньки торговали семечками: большой граненый стакан за одну цену, маленький – вдвое дешевле. Если были денежки, отдавал их тетке, оттопыривал боковой карман штанов, в который засыпались эти семечки, и ходил пару часов, наслаждаясь их масляным вкусом. Правда, это было достаточно редко – мама денежку давала не часто.
Дешевле стоили леденцовые «петушки» на палочках. Как их изготовляли, в основном цыгане, тайна покрытая мраком. Да, это было и неважно. Они были двух цветов – красного и желтого. Какое это удовольствие – сосать и вылизывать «петушка» до самой деревянной палочки с риском занозить язык от этой палочки.
Кстати, о лакомствах. Вспоминая кедровую жвачку Горхона, я несколько раз пытался жевать вар – черную смолу, которую можно было отыскать здесь же на станции. Ею просмаливали шпалы железнодорожного пути. Но из этого ничего путного не получалось – вар прилипал к зубам, и не жевался. При этом зубы оказывались, залеплены черной смолой, и не было никакой возможности отодрать эту гадость. Оставалось тереть замазанные места пальцами до бесконечности, в надежде, что это как-то поможет вернуть зубам естественный цвет. В конце концов, через день или два все приходило в норму, и я мог не скрывать свой рот от мамы и взрослых.
Иногда в руки ребят попадал, непонятно откуда, жмых. Он был двух видов: один очень хороший, с масленым вкусом и ароматом – соевый; другой, так себе – из подсолнечной шелухи, наверное. Обычно это были круги диаметром 20–30 сантиметров и толщиной 4–5: плотные как камень прессованные отходы сои и подсолнечника.
Если отломить или отгрызть кусочек и пожевать, получалась масса, которую можно было либо долго сосать, получая несказанное блаженство, либо тут же проглотить, в надежде добраться до нового кусочка удовольствия.
Одного такого круга надолго хватало, но чаще ребята делились, и все заканчивалось быстро, правда, если попадался соевый жмых.
Подсолнечный не пользовался такой популярностью – он был слишком жесткий и совсем не вкусный. А что могла представлять собой прессованная шелуха семечек?! Его употребляли, только когда уж очень хотелось есть.
А есть хотелось почти всегда – время было такое. Маме приходилось что-то выращивать у дома, делать какие-то заготовки, чтобы накормить нас с Андрюшкой.
В конце осени, с первыми морозами, (в Новосибирске они были всегда не маленькие) мама делала запасы молока на всю зиму до весны. Молоко заливалось в глубокие тарелки и замораживалось в холодных сенях. Когда оно затвердевало, его вынимали из тарелок в виде замороженных слитков и укладывали тут же в сенях на полках в виде пирамид. Этого молока хватало почти до весны.
Весной же наступала в городе очередная эпопея заготовки еды – овощей.
Читать дальше