А взглянем теперь на клиентов этих банков - русских беженцев. П. И. Пономарев, доктор Харьковского института, переведенный в Пановичи, тяжко заболел в прошлом году. Его разбил паралич правой стороны тела. Он умолял всех нас, оставшихся в Н. Бечее, выхлопотать выдачу ему хоть небольшой суммы из его вклада в банке. Ему отказали. В это время заболела его жена, Мария Михайловна, болезнью, требующей сложной и дорогой операции. Денег из банка не дали.
Но еще хуже поступили с нашими детьми. Мы, бывшие студенты, установили на Татьянинском вечере стипендию, на которую училась в университете в Загребе бывшая воспитанница Харьковского института Галина Резвова. Собираемые с нас деньги хранились в штедионице. Теперь Резвова лишена этой стипендии и вынуждена прекратить занятия в университете. Другая воспитанница Харьковского института, Евгения Свинкина, обладающая талантом и отличным голосом, мечтала поступить в консерваторию. На ее имя начальница института положила своевременно в эту штедионицу 15 тысяч динар, оставшиеся после смерти ее матери. Теперь Е. Свинкина вынуждена отказаться от своей карьеры.
Мы не будем приводить все подобные случаи. Их слишком много. Банковский крах охватил чуть не всю Югославию. Доктор Акацатов, покойник, с глубоким возмущением рассказывал мне, что один адвокат посоветовал ему положить свои сбережения в сумме 40 тысяч динар в какой-то банк в Новом Саде. Он это сделал, а на следующий день ему объявили, что банк лопнул. Доктор Акацатов умер, и его не на что было похоронить.
У моего брата погибли сбережения чуть ли не в самом богатом и старом хорватском банке в Загребе. Инженер Куманинов, оставшись без места, рассказывал нам, что у него были сбережения, но они погибли в банке. Любопытно рассказывал мне служащий в институте казак Григорий Воронюк. Услышав, что французы открыли в Панчево пролетарский банк, привлекающий пролетариев высоким процентом, он нарочито съездил в Панчево и сдал на хранение свои сбережения (16 тысяч динар). Скоро этот банк объявил себя банкротом, а французы уехали во Францию.
Мы не вникали в существо этих банковских крахов, а приводим только факты. Говорят, что причиною тому «кризис». Но мы этому не верим. Напротив, мы видим повсюду нарастающую роскошь. Достаточно побывать в Белграде, чтобы видеть эту вакханалию роскоши. Миллионные дома растут как грибы. Рестораны полны с утра. Автомобилей развелось столько, что иногда нет возможности перейти улицу. В каждом доме радио. Последнее время развилось аэропланное сообщение. Письма отправляются воздушной почтой. Город нарядный. Публика отлично одета. Каждый день балы, кабаре, театры, кинематографы, танцульки. И это называется кризисом. Публика настолько избалована, что если кто-нибудь не может завести себе радио, то он жалуется на кризис.
Не уступает этой столичной жизни и провинция. Я спрашивал как-то хозяина большого гастрономического магазина в Н. Бечее, у которого я даю уроки музыки, кто же пьет это шампанское, ликеры и коньяки. «Ого, -ответил мне г. Крстич, - селяки все это выпивают». Мне часто приходится видеть на базаре, как селяки вынимают из-за пазухи свои толстые бумажники. Оттуда торчат не сотни, а тысячединарки.
Однажды я видел директора того банка, в котором пропали у меня деньги. Я подошел к стойке, где пьют, чтобы купить отличные здесь соленые огурцы. В это время директор банка, простой селяк, расплачивался за выпитое, и я видел его толстый бумажник, из которого при мне чуть не рассыпались тысячединарные кредитки.
Хорошо, богато здесь живут люди, и все-таки каждый из разбогатевших во время войны и революции считает необходимым жаловаться на кризис. Разбогатели люди именно за время войны и революции. Любопытно, например, что в Н. Бечее на какой домик, хотя бы на нашей улице, ни посмотришь, всюду написано, что он выстроен в период времени после войны (1924-1929).
В то время, когда я пишу эти строки, я получил письмо, которое меня очень взволновало. Дело в том, что до сих пор в Белграде функционирует Общество попечения о нуждах воспитанниц, окончивших Харьковский институт, которое возглавляет бывшая начальница института М. А. Неклюдова. Как и прежде, за счет этого Общества некоторые девицы посылаются на год за границу (во Францию или Бельгию) в так называемые couvant для завершения образования. Там они изучают языки, стенографию, литературу, музыку, пение и т.д.
Практически до сих пор не установлено, есть ли в этом смысл и дает ли couvant что-нибудь реальное. Мы, по крайней мере, знаем немало барышень, которые, вернувшись из couvant, вышли замуж или служат на сербской службе и пишут на пишущих машинках исключительно на сербском языке.
Читать дальше

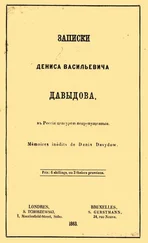
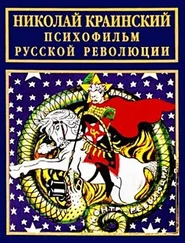
![Джон Кризи - Инспектор Вест [Инспектор Вест в затруднении. Триумф инспектора Веста. Трепещи, Лондон. Инспектор Вест и Принц.]](/books/83349/dzhon-krizi-inspektor-vest-inspektor-vest-v-zatrud-thumb.webp)






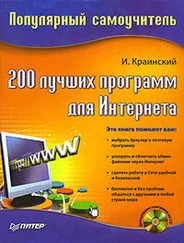
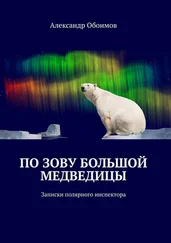
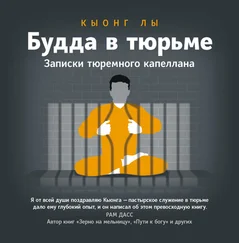
интерстно узнать о его судьбе.
спасибо