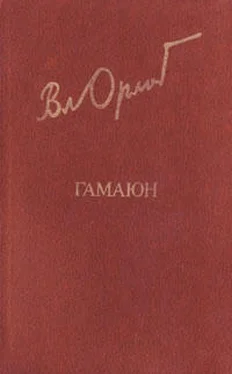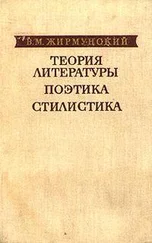(Здесь заметим лишь, что, рисуя внешний облик любимого своего героя драмы «Роза и Крест» – честнейшего, человечнейшего и глубоко несчастного Бертрана, Блок, по собственному признанию, отчасти списал его с Франца Феликсовича. Это, во всяком случае, свидетельствует о заинтересованности и сочувствии.)
Семнадцатого сентября 1889 года Александра Андреевна, забрав сына, покинула родительский дом и переселилась к новому мужу – в казармы лейб-гвардии Гренадерского полка.
Здесь мальчик очутился в совершенно новой обстановке. Даже самый пейзаж, окружавший его, изменился разительно. Это был тоже Петербург, но какой-то особый, ничуть не похожий на тот, что можно было рассматривать из окон ректорского дома: никакого державного течения, никакого берегового гранита…
Гренадерские казармы – это целый городок, выстроенный в самом начале XIX века итальянцем Луиджи Руска на тогдашней окраине столицы – там, где тихая Карповка вытекает из Большой Невки. Тут были, собственно, казармы, офицерский корпус, полковой госпиталь, полковая школа, манеж, конюшни, кузница, помещение хозяйственной роты, полковая церковь (ныне не существующая). Громадный трехэтажный офицерский корпус, украшенный дорическими колоннами, выходил фасадом на Большую Невку. Здесь Александр Блок прожил семнадцать лет – сперва в третьем, потом во втором этаже, – квартиры менялись соответственно повышению Франца Феликсовича в чинах (1891 – поручик, 1897 – капитан, 1902 – полковник).
В девяностые годы место это было удаленным и глухим, куда редко, разве по делу, забредали даже коренные петербуржцы. Конка доходила только до Сампсониевского моста. Подводившая к казармам от Невы Петербургская набережная по вечерам была настолько темной и пустынной, что не каждый извозчик отваживался пускаться по ней в длинный и небезопасный путь.
Гренадерские казармы были окружены заводами, фабриками и трущобными домами, заселенными беднотой, рабочим людом. За рекой лежала Выборгская сторона с частоколом вечно дымящих труб крупных предприятий – мануфактурных, машиностроительных, орудийных, в том числе знаменитых заводов Лесснера и Нобеля.
Эта фабрично-казарменная окраина Петербурга была по-своему живописной. По широкой, многоводной Невке с весны и до глубокой осени сновали пароходы, барки, ялики, катера. Неподалеку от казарм широко раскинулся тенистый Ботанический сад, заложенный еще Петром.
Блок любил эти места и за долгие годы исходил их вдоль и поперек. Черты здешнего пейзажа сквозят во многих его стихах – и дружный ледоход на весенней реке, и бегущие по ней барки, и тускло освещенные окна фабрик, и глухие переулки, и поющие заводские гудки…
И доныне бок о бок с бывшим офицерским корпусом Гренадерских казарм стоит высокое, смахивающее чем-то на средневековый замок, мрачное краснокирпичное здание старой тюлево-гардинной фабрики (основанной еще в 1837 году) – то самое, которое видел Блок из своего окна, и все так же наглухо заперты тяжелые железные ворота в опоясавшей фабрику толстой каменной стене…
Отсюда, из Гренадерских казарм, с осени 1891 года Сашура стал ходить в гимназию – на Большой проспект, который в ту пору все еще отдавал уездным захолустьем. Среди низеньких деревянных домиков с садами и дощатыми мостками, вдоль которых стояли редкие керосиновые фонари, одиноко возвышалось трехэтажное здание Введенской гимназии. Потеряв былую импозантность, затертое новыми постройками, оно и теперь стоит на углу проспекта и Шамшевой улицы.
Сашуру отдали сразу во второй класс. Много лет спустя он так вспомнил об этом событии в незаконченной «Исповеди язычника»:
«Мама привела меня в гимназию; в первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь; но в дверях класса, хотя и открытых, мне чувствовалась непереходимая черта. Меня посадили на первую парту, прямо перед кафедрой, которая была придвинута к ней вплотную и на которую с минуты на минуту должен был взойти учитель латинского языка. Я чувствовал себя как петух, которому причертили клюв мелом к полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову… Рядом со мной сидели незнакомые мне и недоверчиво оглядывающие меня мальчики. За дверями я чувствовал длинный коридор, потом большой рекреационный зал, потом еще какой-то переход за колоннами и широкую лестницу в два поворота; там где-то уже шел, приближаясь с каждой секундой, страшный учитель; если я побегу, он все равно поймает меня где-то там, вернет в класс, и будет еще хуже. Главное же чувство заключалось в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то и куда-то отдан и что так вперед и будет. Проявить свое отчаяние и свой ужас, выразить их в каких-нибудь словах или движениях или просто слезах – было немыслимо. Мешал ложный стыд».
Читать дальше