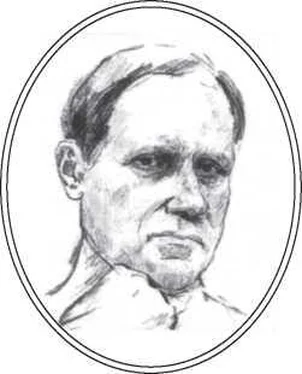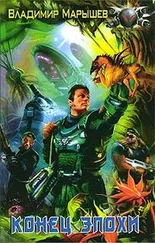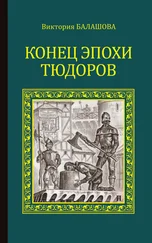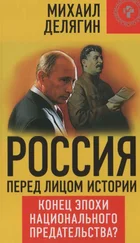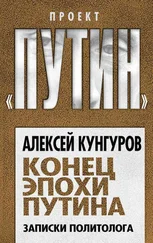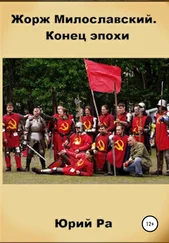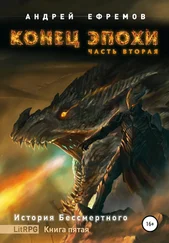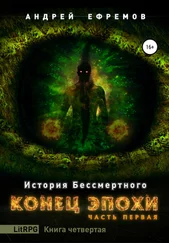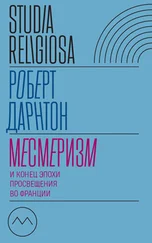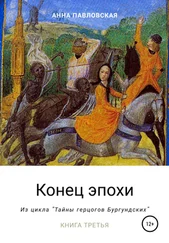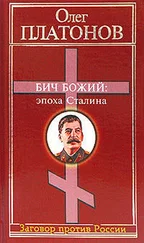На родину св. Иоанна Кронштадтского в село Суру на берегу реки Пинеги мы пришли с рюкзаками за спиной. Договорились со старушкой о ночлеге, положили вещи и сразу же направились к месту, где родился великий русский святой. В 1899 году еще при его жизни на средства праведного был возведен Иоанно-Богословский монастырь, построены школа, дома для крестьян. При нашем посещении в селе и окрестностях жили потомки Иоанна Кронштадтского по его сестре Дарье. Один из них, Николай Александрович Малкин, был бригадиром на лесозаготовительном участке. Нам рассказывали, что все потомки святого были трудолюбивы и честны.
От монастыря остались только фрагменты, но главный собор, законченный строительством в 1914-м уже после смерти святого, уменьшенная копия собора, в котором праведный служил в Кронштадте, был заложен в присутствии самого о. Иоанна, который, по преданию, сказал: «Освятить я его вам освящу, а служить в нем вы не будете». Так и получилось. Жители рассказывают, что при закрытии монастыря не обошлось без «явреев», которые с особой ненавистью относились к памяти святого. собор перестроили, организовали там клуб с танцами. У крестьян отнимали книги, подаренные Иоанном Кронштадтским, его изображения. «Яв-реи» специально приезжали из Пинеги и распускали о нем гнусные слухи, о его якобы корыстолюбии и «распутной жизни». Но крестьяне не верили им, молились святому. Паломники со всех концов России постоянно еще до 1917-го шли на место рождения святого. Не прекратилось это и при большевиках, в 20-30-е годы.
Двоих странников к о. Иоанну Кронштадтскому встретил и я в начале 80-х годов. Они были из окрестных мест. Всерьез уверяли меня, что Иоанн Кронштадтский был захоронен не в Петербурге, а здесь, в Суре, на территории монастыря. Якобы гроб его привезли ночью на пароходе и спрятали в подвале монастыря.
В окрестностях Суры на реке стояла часовня Николая Чудотворца, построенная по обету и почитаемая всеми окрестными крестьянами. Власти несколько раз жгли ее, а крестьяне — восстанавливали. Когда я там был, часовня представляла собой небольшой срубчик с крестом, к которым были привязаны разные платки и одежды, принесенные сюда по обету.
Уже стемнело, когда мы пришли к бабушке Александре Николаевне, у которой остановились на ночлег. Допоздна пили чай со сковородниками (лепешки со сметаной). На столе стояли грибы, морошка, вареная картошка — обычная еда северных мест. Разговоры о вере, о старой жизни, порушенной «яврейской властью», о «египетских» лесозаготовках. Темы одни и те же всюду, но каждый раз новая черта в понимании событий, которые происходили здесь.
Вернувшись из Суры в Пинегу, мы пешком пошли в Красногорский Богородицын монастырь, расположенный на высокой горе, с которой открывается восхитительный вид на изрезанную островами реку Пинегу и безбрежные еловые леса. Основанный в 1603 году, монастырь был славен чудотворной иконой Грузинской Божьей Матери. В монастыре было три храма и каменные стены с башнями. После прихода советской власти остались лишь руины одной церкви и два каменных здания, в которых в нищенских условиях жил «контингент» дома-интерната для психически больных. Запах помоев и нечистот. У алтаря главного храма был похоронен сосланный сюда Петром I любовник царицы Софьи князь Василий Голицын, мечтавший установить в России западные порядки.
Недалеко от монастыря около 60 пещер протяженностью 20 км, стены покрыты толстым слоем кристаллического льда. В пещере течет ручей, ход время от времени сужается, приходится проползать. Но сказочный мир, отражающийся при свете фонаря, манит идти дальше.
Возвращаемся в Пинегу, а оттуда около 200 км в Артемиево-Веркольский монастырь, основанный в XVI веке на месте обретения мощей святого праведного Артемия Веркольского (ум. 1544). Перед 1917-м в монастыре было шесть храмов. Успенский собор освящал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1919-м в собор пришли еврейские большевики и объявили о его закрытии и организации в нем коммуны. Бабушки из Верколы рассказывали мне, что, по преданию, мощи святого Артемия были спрятаны в тайном месте. Монахов, протестовавших против закрытия монастыря, пинежские чекисты расстреляли прямо во дворе. Коммуна, организованная в монастыре, просуществовала недолго. созданная из числа сельских люмпен-пролетариев, она переехала на территорию монастыря со своими домами, которые зимой новые обитатели «раскатали на дрова», а сами поселились в кельях, выгнав на мороз оставшихся монахов. Проев все монастырские запасы, продав и пропив инвентарь, строители социализма разошлись в разные стороны, до неузнаваемости испоганив православную святыню. Впрочем, потом на их место пришли новые коммунары. Эти, говорят, жили здесь до 30-х годов. Позднее в разрушенном монастыре организовали дом для престарелых, а затем детский дом и трудовой лагерь.
Читать дальше