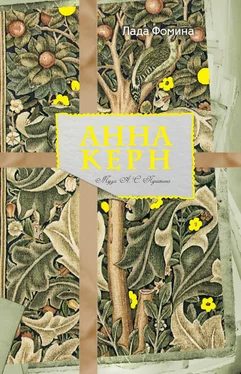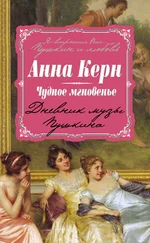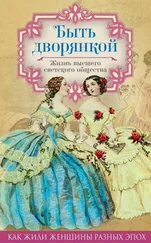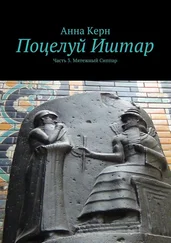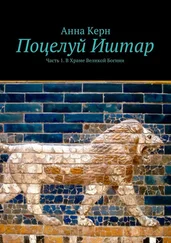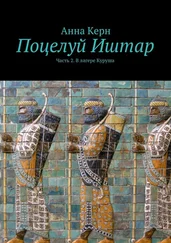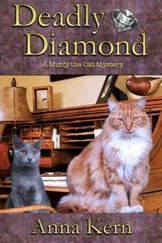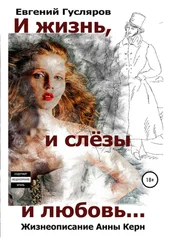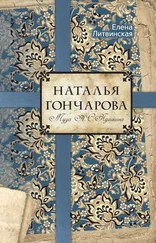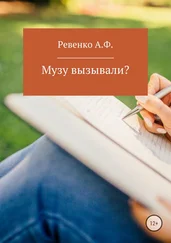1 ...7 8 9 11 12 13 ...64 Отдельно хочется остановиться на обучении кузин русскому языку. «Все предметы мы учили, разумеется, на французском языке, – пишет Анна Петровна, – и русскому языку учились только шесть недель во время вакаций, на которые приезжал из Москвы студент Марчинский». Слово «только» ясно дает понять, что автор этих строк считает, что шесть недель в год в течение нескольких лет – это очень мало. А меж тем, как ни трудно поверить в это современному человеку, очень значительную часть дворянских детей той эпохи вообще не учили русскому языку. Достаточно вспомнить героиню «Евгения Онегина» Татьяну Ларину, которая
«…по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном».
Так что в этом отношении Анна Петровна выгодно отличалась от своих современников тем, что с детства знала и любила родной язык. Она читала не только европейские, но и русские книги, а также переводы иностранных романов и сравнивала их с оригиналами. «Я получила очень хорошие книги, – пишет она в 20 лет в своем дневнике, – «Новую Элоизу» [18], а еще «Сентиментальное путешествие» Стерна [19], тоже по-французски. Хоть они у меня есть и по-русски, но снова их перечитываю. Я в восторге, что у меня есть «Новая Элоиза», там есть места в самом деле восхитительные, которые в русском переводе совершенно пропали».
И далее:
«Я немножко проглядела «Сентиментальное путешествие» по-французски и, представьте себе, русский перевод нахожу приятнее; не знаю, красота ли перевода или прелестные замечания, кои придают очарование всей книге, только, на мой взгляд, по-русски она написана гораздо лучше, нежели по-французски. Вы знаете, что ведь вполне возможно, чтобы перевод был лучше подлинного сочинения».
В своих дневниках, которые Анна, по ее собственному заявлению, вела всю жизнь, она тоже частично писала по-русски. Самый первый ее дневник постигла печальная участь: отец разорвал его на листы, из которых сделали пакетики для упаковки горчицы – в числе многочисленных проектов Петра Полторацкого был и небольшой горчичный завод. Однако это не отбило охоту Анет к литературному труду. Ей так нравилось писать письма, что в детстве она переписывалась даже с кузиной, с которой в то время жила в одной усадьбе. «Когда я заболевала, то мать брала меня к себе во флигель, и из него я писала записки к Анне Николаевне, такие любезные, что она сохраняла их очень долго. Мы с ней потом переписывались до самой ее смерти, начиная с детства». Все исследователи биографии Анны Керн сходятся во мнении, что поверять бумаге свои мысли и чувства было для нее настоящей потребностью, которая с годами не исчезла, а стала только сильней.
Кокетка, ветреный ребенок…
Некоторые биографы Анны Керн, преимущественно мужчины, находят, что она уже с младых ногтей сделалась кокеткой и очень рано проявляла склонность к легкомыслию и флирту, сильно развившуюся в ней впоследствии. Другие исследователи, как правило женщины, не видят ничего предосудительного в том, что девочка и тем более юная девушка кокетничает и хочет нравиться.
Действительно, в воспоминаниях Керн о детстве иногда проскальзывает подобный мотив. Так, Анна Петровна несколько раз отмечает, что девочками, в том возрасте, когда еще положено думать об играх и куклах, они с кузиной Анной Николаевной Вульф мечтали выйти замуж за героев древней истории или мифологии, «а в случае неудачи – за какого-нибудь из русских великих князей».
В своих мемуарах Анна Петровна неоднократно отмечает, что, едва выучившись читать, тайком брала книги из библиотеки матери. Почему тайком – догадаться нетрудно, явно это были совсем не те книги, с которыми разрешают знакомиться подрастающему поколению. Ну как тут не вспомнить цитату из Пушкина «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал» или отрывок из «Евгения Онегина», рассказывающий о Татьяне Лариной:
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо…
Почти с уверенностью можно утверждать, что еще задолго до замужества Анет прочитала множество любовных романов, и не только сентиментально-невинных, но и довольно откровенных, коих в куртуазном и фривольном XVIII столетии было написано немало. И словно предчувствуя, что потомки со временем захотят поставить ей это в упрек, она заранее точно оправдывается в своих воспоминаниях:
«Мы (Анна Керн и Анна Вульф. – Авт. ) в свободные часы и по воскресеньям постоянно читали. Встречая в читанном скабрезные места, мы оставались к ним безучастны, так как эти места были нам непонятны. Мы воспринимали из книг только то, что понятно сердцу, что окрыляло воображение, что согласовано было с нашею душевною чистотою, соответствовало нашей мечтательности и создавало в нашей игривой фантазии поэтические образы и представления. Грязное отскакивало от наших душ. Они всасывали в себя только светлую непорочную поэзию».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу