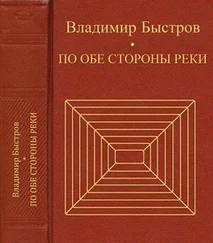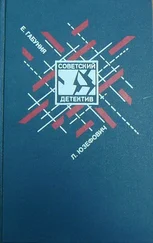Писал он мне раз или два в месяц, под конец жизни – реже. Внешне все его письма выглядели одинаково: сложенный вдвое лист А4 превращался в четыре небольшие страницы, целиком или частично исписанные. Почерк у него был убористый и крайне неразборчивый, интервалы между строчками минимальными – сказывалась привычка экономить бумагу. С годами разобрать написанное становилось все труднее. По роду деятельности мне иногда приходится иметь дело с эпистолярным наследием писателей, работать с рукописями в архивах, да и в моем собственном их накопилось довольно много, так что есть с чем сравнить. С точки зрения материальной, как артефакты, письма его ничем не примечательны, другое дело – их содержание: перечитывая их по прошествии многих лет, я вдруг вспоминаю начисто забытые события, обстоятельства, переживания собственной жизни, оставившие след в его вопросах и комментариях, словно в слепках, позволяющих воссоздать забытое.
Подобно охоте за книгами, его эпистолярная деятельность носила обдуманный и систематический характер. Он вел журнал переписки, внося пометки в разлинованную тетрадь, где в одну колонку вписывалась дата получения, в другую – имя отправителя, в третью – дата написания ответа.
«Моя настоятельная к тебе просьба – датируй, пожалуйста, свои письма, это значительно облегчит нашу переписку. Мне не надо будет ломать себе голову над тем, как обозначить полученное от тебя письмо, и царивший всегда в моем „кондуите“ порядок будет восстановлен». Это был настоящий воспитательный процесс: мягко, но настойчиво он призывал меня следовать его примеру, объяснял необходимость датировки, позволяющей избежать путаницы, добивался, чтобы в начале каждого письма я указывала, на какое из его посланий я отвечаю. Он не ослаблял усилий из года в год, многие письма начинались с упреков, если речь шла обо мне, или извинений за недостаточно быстрый ответ, если дело касалось его самого [11]:
«Писала ты письмо 8-го, а на конверте штемпель отправления из Москвы 11-го. Значит ли это, что письмо пролежало у тебя в портфеле, кармане или другом месте в ожидании отправки с 8-го по 11-е? Получил я письмо 16-го, т. е. в пути оно находилось достаточно долго. Причин тому может быть несколько, но одна из них та, что ни ты, ни бабушка не можете подчиниться новому почтовому коду. И открытки, и конверты теперь имеют специальное место для написания индексов. <���…> Обзаведитесь конвертами установленного образца! Прошу!»
За такого рода введением следовала реакция на мое предыдущее послание, которое нередко содержало и план для последующего ответа: «В своем письме ты ответила на мои вопросы, но ими не исчерпывается мой интерес…» – после чего следовал список тем, которые он желал бы обсудить. Его интересовало все: просмотренные фильмы и театральные постановки, концерты, на которых мне довелось побывать, мои спортивные успехи, воспитание сестренки, «сердечные дела», и даже впечатления о чемпионате мира по хоккею.
В последние годы жизни он пристально следил за моей учебой на филфаке МГУ. Большая часть сохранившейся переписки относится именно к этому периоду. Любопытство Семена не знало границ, его интересовали преподаватели, предметы, программы. Он давал советы: не разбрасываться, не увлекаться обилием предметов и спецкурсов, а придерживаться наиболее важного, найти наименее ортодоксальных профессоров, избегать выходок, которые могут быть расценены как провокация. «Приглядывайся к своим однокурсникам не торопясь, внимательно. Не допускаю, чтобы среди двухсот твоих новых коллег не нашлось думающей молодежи. Не спеши!» – увещевал он меня. «Понимаю, что „все время врать“ – непосильная нагрузка для психики. Если даже не непосильная, а просто трудная нагрузка. Но „ такое “ следовало заранее предвидеть, и если ты решила заниматься на филфаке, если не раскаиваешься в этом, то надо, не изменяя себе в существенном, стараться „перебарывать“ себя, не допускать „психологического срыва“. Особенно у звероподобных преподавателей». Он предостерегал от ненужных конфликтов: «Спор хорош, когда из столкновения мнений рождается истина».
Особенно его интриговала моя лингвистическая всеядность («Заниматься одновременно четырьмя языками – не слишком ли много?»), тем более что в его глазах возможность изучения иностранных языков, особенно редких, являлась «большой привилегией», признаком либерализации системы, тогда как для меня, выросшей в более мягком идеологическом климате, речь шла скорее о неотъемлемом праве. В письмах он часто возвращался к этой теме, подробно расспрашивал о моих занятиях, а однажды, случайно попав на радиопередачу о шведском языке, внимательно прослушал ее и пришел к выводу, что он напоминает… Plattdeutsch. Такое наблюдение под силу лишь человеку, хорошо знакомому с Hochdeutsch, однако при мне он никогда даже не упоминал о таком знакомстве. Также мимоходом проскальзывает сообщение о том, что он владел и другими языками:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу