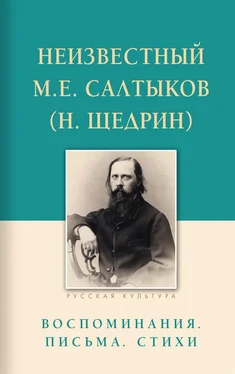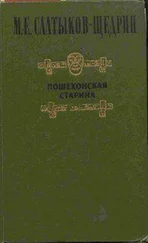Чиновничья служба фактически не оставляла времени для занятий литературой, но Салтыков все-таки ухитрялся писать. Главным объектом его внимания оказывается жизнь провинциальная, и чиновничья в частности. В 1857–1868 годах написаны произведения, объединенные в сборники «Невинные рассказы», «Сатиры в прозе», «Письма о провинции» и др. В 1860-х годах Салтыков напишет и не публиковавшуюся при его жизни «драматическую сатиру» «Тени», в которой разоблачались механизмы деятельности высшей бюрократии. В эти же годы начинается публикация рассказов, впоследствии составивших цикл «Помпадуры и помпадурши», герои которых губернаторы-«помпадуры» и их любовницы-«помпадурши». В этих рассказах определяются и художественно аргументируются основные признаки «помпадурства»: «невежественность ‹…› легкомысленная страсть к разрушению ‹…› и сластолюбие».
«Ругающийся вице-губернатор» – так обозвал Салтыкова В. А. Зайцев, радикальный критик радикального журнала «Русское слово». Бранная формула Зайцева определяла беспримерное положение Салтыкова в литературно-общественной жизни России: чиновник, занимавший высокие государственные посты, он в своих литературных произведениях был самым ярким обличителем существовавших порядков – царившего на Руси беспорядка. В текстах Салтыкова не раз возникает летописная формула «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», и он не просто мечтал о том, чтобы порядок был, но словом и делом стремился утверждать его.
Вице-губернаторство Салтыкова в Твери совпало со временем подготовки и проведения крестьянской реформы. По поводу освобождения крестьян высказывались разные соображения о том, в каких формах оно должно происходить и насколько должно быть радикальным. Часть прогрессивно настроенного тверского дворянства – тверская либеральная оппозиция – выступала за освобождение крестьян с предоставлением им земли. Лидером этой группы был Алексей Михайлович Унковский, губернский предводитель дворянства в 1857–1859 годах, младший соученик Салтыкова по лицею, который с конца 1860-х годов становится одним из ближайших его друзей. В начале же 1860-х их объединила общность позиции по крестьянскому вопросу. В этот период Тверь оказалась своеобразным центром антиправительственных настроений. Программа либеральных преобразований, предложенная чрезвычайным собранием тверских дворян, была изложена в Адресе, направленном Александру II. Салтыков, не имевший непосредственного отношения к событиям, судя по некоторым обстоятельствам, негласно участвовал в выработке документов.
«…Карикатуры нет ‹…› кроме той, которую представляет сама действительность»
В очерках, написанных в Твери в начале 1860-х годов, впервые появляется город Глупов. Но прообразом его послужила не только Тверь, в равной мере на это могли претендовать и Вятка, и Рязань, а позже еще и Тула, и Пенза – любой из губернских, уездных или даже столичных городов, словом – вся Россия.
Уже в этих первых рассказах появляется тема истории Глупова – истории, которая не существует: «У Глупова нет истории. Всякая вещь имеет свою историю; даже старый вице-губернаторский вицмундир имеет свою историю ‹…› а у Глупова нет истории. Рассказывают старожилы, что была какая-то история и хранилась она в соборной колокольне, но впоследствии не то крысами съедена, не то в пожар сгорела…» Слово «история» каламбурно обыгрывается: в нем совмещаются понятия о процессе и об описании процесса. К этому каламбуру автор возвращается в «Истории одного города», где использован прием найденной истории – записей четырех летописцев, развернутых в причудливом повествовании.
Основные события, изображенные в романе Салтыкова, хронологически ограничены 1731–1825 годами, но о сугубой условности этих временных границ свидетельствует, например, число градоначальников – 22: именно столько самодержцев было на Руси, начиная с венчавшегося на царство Ивана Грозного и до правившего в 1860-е годы Александра П. Текст романа насыщен «историческими совмещениями и проекциями» (С. А. Макашин), убеждающими в том, что перед нами не историческая, а, как утверждал автор, «совершенно обыкновенная» сатира. Материал же для сатирических обобщений писателю давала вся российская история – от Гостомысла до современности. «Сумасшедше-юмористическая» (И. С. Тургенев) фантазия Салтыкова гротескно заостряла факты и ситуации действительной жизни, обнажая их подлинное содержание и сущность.
Читать дальше