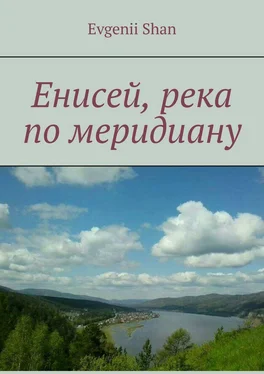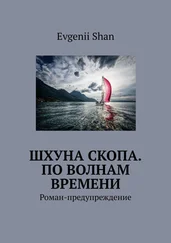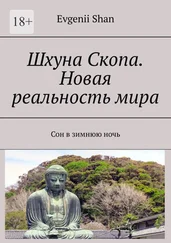Но без хлеба становилось все труднее, а когда появилась опасность окончания сигарет, которые нам великодушно оставил наш профессор, было решено выбираться к людям. Дело в том, что срок, когда нас должны были забрать со стоянки лесники уже давно прошёл. Больше недели мы были оторваны от мира без хлеба, чая и махорки. Чага, обильно завариваемая в котелке, только добавляла усталости, так как являлась средством успокаивающим. К комарам привыкли, а мошка стала казаться невыносимой, все репелленты давно закончились. На экспедиционном совете мы решили выходить сами, на лодках. Кроме нашей «оморочки» была ещё резиновая лодка. Мы рассчитали уйти тремя рейсами.
Первый рейс выпал на долю меня и Петрова. Нагрузив резинку вещами и посадив шкипером Серёгу, мы привязали её на буксир к челноку, в котором капитаном, штурманом и движущей силой был я. Двинулись. Тянуть лодку было не сложно, но речка петляла и постоянно цепляла резинку кустами. Шкипер как мог выравнивал баржу, а я грёб изо всех сил. Два часа ушло на спуск по реке к самому узкому месту между речкой и Енисеем. Устье Сарафанихи было гораздо дальше, но высадка на берег должна была быть здесь. Енисей нас встретил северным ветром и высокой волной. Было прохладно, но не было комаров. Я остался строить новый бивкак, а Серёга погнал «оморочку» обратно к нашему стану за вторым рейсом груза.
Когда мы все собрались вместе, Лизка выдала нам по две печеньки, а Кирьян поделился со мной сигаретами. Ночь прошла тревожно. Весь последующий день мы высматривали лодку на реке, но при такой волне вряд ли кто мог осмелиться. Только к вечеру нам опвезло, по нашему берегу шла «Обь-2м» с тремя молодыми пацанами, младше нас. Только такие сорванцы и могли себе позволить спорить с «сивером», не бояться утонуть. На переговоры в лесхоз был направлен я, как местный житель. Мне вручили несколько вяленых окуней, к поясу пристегнул нож, накинул фуфайку и… с богом.
Ночевать пришлось на дебаркадере в Туруханске, контора лесхоза закрыта до понедельника. Мы и дни недели уже потеряли. Удивления у местных жителей я не вызвал, поужинав вяленой рыбой и выкурив последнюю сигарету, я улёгся в зале ожидания на голую лавку и уснул. А утром, так же обыденно, умылся и попил из Енисея, бодро зашагал к лесхозу. Встретил меня молодой кобель- лайка, разрешил сесть на крыльце в ожидании начальства, покурил со мной папиросы, которые я стрельнул у проходившего мужика. Ничего не отличало местную жизнь от нашей деревенской, и только полярное солнце грело чуть меньше. Чувствовал я себя как у себя дома. Дом, который мне скоро суждено было надолго оставить.

Голубой снег искрился на солнце. Он стал немного темнее, появились синие тени, потому что солнце уже не пряталось так рано за островом Скутовым. Оно теперь поднималось выше и времени на то, чтобы нырнуть в Енисей на западе уходило чуть больше. Я стоял на угоре у накатанной санной трассы один и радовался. Младшего брата упекли-таки в ясли, и напарника для игр у меня на сегодня не было. Сегодня не будет спора кто впереди на санках, а кто сзади. Я сел и покатил в низ, но на двух третях горки санки начали тормозить, проваливаться полозьями в накатанный снег и, наконец, резко встали. Я полетел кубарем и очутился в небольшой лужице. Яркое сибирское солнце в марте месяце растопило снежок и теперь смеялось надо мной. Весна.
Весна в деревне – особой время. Когда день на севере становится ощутимо длиннее, когда белый чистый снег искрится и слепит глаза, отражая солнечные лучи, когда лёд на Енисее вдруг перестаёт играть всеми красками неба и становится тёмным, сердце каждого наполняется какой-то первобытной радостью. Хочется бегать и прыгать, как маленькому телёнку, которого в первый раз после рождения выпустили на солнышко в пригон. Когда я немного подрос и стал интересоваться географией, я страшно удивился узнав, что наша деревня – среднее течение реки Енисей, а совсем не Север. Зима, когда тяжёлое солнце не более чем на 4 часа выходит из-за горизонта и даёт возможность конному обозу преодолеть путь до колхозных стогов на Тису. Лето, когда в самом его разгаре, северный ветер заставляет всех надевать стёганые ватники. Географически это не Север, это средняя полоса бореальных таёжных лесов. К этому же поясу относились и хвойные леса Канады и США, Великие Озёра и Скалистые горы. Дикие леса американских индейцев были нам знакомы не только по книгам Фенимора Купера, Сат-ока и Сэтен-Томпсона. Мы не просто играли в индейцев, мы жили жизнью похожей на них.
Читать дальше