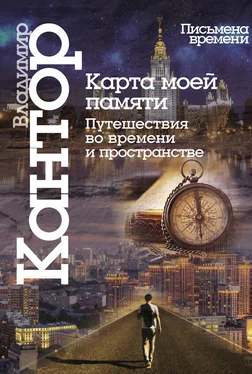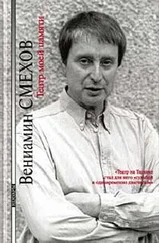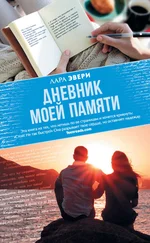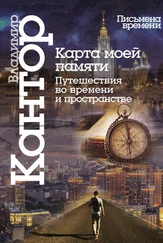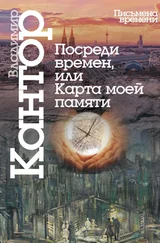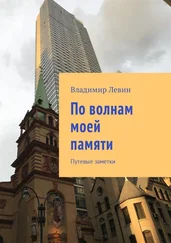Макаров : А вот как вы воспринимаете именно как мыслитель и как читатель литературы, как литератор, как вот, скажем, Василий Васильевич Розанов? Как вот у вас? Какое место занимает в вашем восприятии читательском, в сознании?
Кантор : Он человек гениальный абсолютно, это, безусловно, тут возразить против этой тезы нечего. Собственно, я сам ее произнес, сам себе не возражаю. Ну, он, конечно, и художник, и писатель, и философ одновременно. И каждый его текст написан блистательно. И вместе с тем – что это? Литература? Да, литература. Что это – философия? Да, философия. По крайней мере, начнем с того, что вы хорошо сказали о том, что философия и литература неразрывны. В России это тоже есть. Но у нас иногда упрощают и говорят: «Вот там такая старушка, она тоже философ, она такие мудрые вещи изрекает». Я пытаюсь объяснить, что есть разница между мудростью и философией. Это совершенно разные вещи. Философия строится на рефлексии, на прохождении через личностное сознание. Мудрость – нуда, это хорошо, но это не личное осознание. Это некий, если угодно, опыт. Народный, жизненный и т. д. Это совершенно другое. И Розанов говорил, это не просто мудрость человека, это человек начал с огромного трактата о понимании, который далеко не все прочли. Я боюсь, что из любящих Розанова только десятка два человек это прочитали, но без этого не было бы Розанова. Он поставил некий фундамент своим дальнейшим писанием, и этот фундамент был чисто философский. Поэтому его действительно можно воспринимать как философа, который был одновременно и писатель. Или как писатель, который одновременно и философ.
Макаров : А вот, может быть, опять-таки, мой вопрос, такой совершенно выдающий мое невежество, но мне кажется, что хотя, конечно же, литература была в России традиционно прибежищем философии, но при этом вот эта литература, великая литература, которая постоянно выражала и необходимость познавать мир, и осмысливать его, и отрефлексировать его, но она как бы не укладывалась в определенную концепцию. Вот, скажем, Толстой – он потом придумал себе учение. И мне кажется, что некое отличие, скажем, я не знаю, не говорю ли я абсолютную дикость, вот мне кажется, например, знаменитые французы – Сартр, Камю. Что касается Сартра, он очень неплохой писатель, и живой писатель, даже пьесы писал и очень остроумные. Камю вообще писатель грандиозный.
Кантор : Камю – гений, действительно, безусловно.
Макаров : Но мне кажется, что вот Сартр, некую свою идею, любимую какую-то свою концепцию, ему важно было изложить, он ее имел предварительно. Такое у меня ощущение. А вот мне кажется, что русские писатели не имели предварительно. Она как бы родилась уже в процессе литературного труда.
Кантор : И да, и нет. Дело в том, что есть писатели-схемы, они есть и среди писателей, и среди философов. Сартр – вы правы, у него была схема не мысли о мире, а схема мира, наверное, так точнее. И абсолютно свободный Камю. Человек полета. Безусловно, творческого полета, философского полета. Кстати сказать, выросший на русской философии, прежде всего на Достоевском. Вот его знаменитый «Человек бунтующий» – он весь на аллюзиях из Достоевского, там бесконечные отсылки к Достоевскому. Пьесу сделал по «Бесам». Так что здесь хорошая русская школа у Камю. Это вообще очень любопытно, что вначале русские писатели и философы учились у Запада, конечно, начало XIX в., я уже не говорю про XVIII в., все почти полупереводы с Запада. И вот после Пушкина начинается такое какое-то нахождение не то чтобы собственной идеи, хотя и идеи тоже, а вот самостояния, воспользуюсь словом Пушкина. Такого духовного самостояния. И уже с Достоевского это очевидно совершенно. Хотя любопытно, что когда смотришь издали, уже знаешь, что это гений, то думаешь, что и всегда думали, что он гений. Это как про Пушкина знаем, что он величайший, всегда был величайший. Но опять же забывается, что самые лучшие тексты Пушкина были опубликованы двадцать лет спустя после его смерти. Чудом сохранившиеся! В сундуках! Пушкин при жизни последние годы был отвергнут даже друзьями. Это феномен, о котором мы забываем, не хотим думать об этом. Белинский, который даже не знал настоящего позднего Пушкина, говорил, что я его отрицал, а теперь я себя…
Макаров : Корю за это
Кантор : Корю, как за клевету на Духа Святого! Пушкин, конечно, поздний, когда он становится абсолютно самостоятельным – толпа не воспринимает самостоятельности. Ну, так устроена человеческая психика. Толпа воспринимает привычное. Вот Достоевский, скажем, как и Пушкин, был весь непривычен. Толстой более привычен. Как писал тот же Розанов, судьба Толстого жить всегда в славе, судьба Достоевского – быть всегда непризнанным. Тут он ошибался, Достоевский стал признанным и более чем, более чем кто-либо. Но опять-таки, есть эпизод из жизни Достоевского, меня он очень трогает: последний год жизни семейство Соловьёвых очень дружило с ним, старший брат Всеволод и младший Владимир Соловьёв, и Всеволод как-то повел Достоевского к гадалке. Достоевский не очень во все это верил, ну тот его уговорил. «Всеволод Сергеевич, ну я пойду. Раз Вы просите, то я пойду». Выходит – смеется. Что такое, Федор Михайлович? – Она сказала, что я буду самым великим русским писателем в восприятии потомков. Смешно, говорит он, когда есть Толстой, Тургенев, – начинает перечислять великие имена – и я, говорит, ну это же смешно! Всеволод Сергеевич тоже не понял. Он говорит, что Федор Михайлович не знал, что его речь о Пушкине произведет такое впечатление, это понижение сразу на двадцать градусов. Речь о Пушкине гениальна, замечательна, но это не весь Достоевский. И конечно, не этой речью он стал велик на весь мир и знаменит. В самовосприятии Федора Михайловича он понимал себе цену и вместе с тем никогда не было вот того чудовищного эго, которое было у Толстого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу