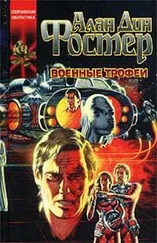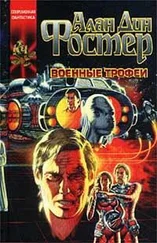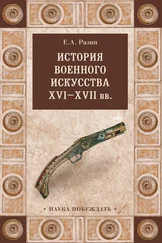Евгения КАЦЕВА
МОЙ ЛИЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРОФЕЙ
I
Предложение
Разумеется, в этом есть большая доля самоуверенности, если не нахальства: написать свои воспоминания на немецком языке. Ведь немецкий не просто не родной мой язык, — я его даже не изучала. Когда он мне понадобился — понадобился всерьез, — весь мой “багаж” состоял из оставшихся в памяти после украинской десятилетки нескольких слов и поклепного вирша о нашем учителе немецкого языка.
Но на скромном праздновании моего 80-летия в маленькой однокомнатной московской квартире, где за составленными двумя столами — рабочим и кухонным — с трудом спрессовались двадцать гостей, почти случайно оказались немецкий писатель Гюнтер Грасс и его издатель Герхард Штайдль. И где-то в середине вечера Грасс предложил мне (шутливо? неосмотрительно?): “Напиши-ка ты свои воспоминания. На немецком. А Штайдль издаст их”. — “Да-да, — подхватил Герхард, — я дам тебе хорошего редактора”. — “Лучше хорошего корректора, ведь с вашими “дер”, “ди”, “дас” я все еще в состоянии войны, да и с орфографией не слишком дружна, в разговоре это не так заметно”.
Но почему бы, собственно, не попробовать? Словарный запас поднакопился, должно хватить не только на “немецкие” страницы моей жизни. А что не родной язык, так с языками у меня вообще были сплошные приключения.
Ведь как с русским-то было дело? Родной мой язык был идиш, до одиннадцати лет я не знала, как слово “мама” по-русски звучит. Именно в этом возрасте я закончила четырехлетку в еврейской колонии Каменка, куда мама переехала из Гомеля после смерти отца.
Колониями на Украине назывались небольшие поселения; в сущности, это были деревни, только поселенцы были специфического — однородного — типа. Кстати, неподалеку от нас была и немецкая колония.
Для дальнейшей учебы мама отправила меня к своей родне в большой город — Ворошиловград, прежде и теперь — Луганск (каждое переименование знаменовало новую политическую веху), куда вскоре и сама переехала.
Поначалу было невыносимо: я, “звезда” своей прежней школы, попросту ничего, ну совершенно ничего не понимала. Мне казалось, потому, что все слишком быстро говорят. Но в конце концов десятилетку я закончила с “золотым аттестатом” (медалей еще не было) и по впервые заведенному в 1937 году правилу могла поступить в любой вуз без вступительных экзаменов. Выбрала Ленинградский университет, филологический факультет. Русское отделение.
А с английским как было? Когда война шла к концу, в штабе Балтийского Военно-Морского Флота родилась идея: после войны нужно будет иметь резидентов в Латинской Америке. По мнению одного увидевшего меня на вахте начальника, мой внешний облик вполне мог подойти, — значит, нужно заняться моим обучением, подготовить этакую будущую Марту Рише, — неважно, что я напрочь лишена такого первостепенно необходимого качества, как чувство ориентации — в обиходе это называется географическим кретинизмом. Начать надо с языка. Ну, научить, да еще за короткий срок, испанскому так, чтобы он мог сойти за родной, невозможно; пусть это будет английский, по-английски все они там всё равно говорят плохо.
Меня освободили от всех работ и поселили на какую-то квартиру вместе с некоей старой графиней. Мы занимались день и ночь, и спустя три месяца она дала мне “Gone with the Wind” (“Унесенные ветром”) Маргарет Митчелл, строго-настрого запретив на каждом слове открывать словарь, дабы чтение не превратилось в пытку, — действие, считала она, меня настолько увлечет, что незнакомые слова, скорее угаданные, чем понятые, все равно как-то застрянут в задней части мозжечка.
Но к этому времени моя часть двинулась на запад, и мой уже немного освоенный в общении с немецкими военнопленными немецкий забил начальные успехи в английском.
Насколько права была графиня со своей методой, я поняла лишь полвека спустя, когда в первый раз (был еще и второй) полетела в Австралию. Моя давняя немецкая подруга, вышедшая замуж за австралийца, организовала мне приглашение в Сиднейский университет. Чтобы облегчить перелет, я должна была сутки передохнуть в Куала-Лумпуре, получив на аэродроме австралийский авиабилет, квитанцию на оплаченный номер в гостинице и немного денег. На дворе был декабрь, я знала, что в Малайзии и Австралии лето, но прилетела-то я из холодной Москвы и, хотя была не в шубе, все же одета не для 35-градусной жары. Куда сунуться, я не знала, тащилась со своим тяжелым, пусть и на колесиках, чемоданом от одного окошка к другому, натыкаясь на непонимание, пока в отчаянии не схватила за рукав одного полицейского и взмолилась с неизвестно откуда всплывшими словами: “Please, try to understand me” (“Пожалуйста, постарайтесь меня понять”). Он действительно постарался, понял в конце концов мою незадачу и доставил меня куда надо. Последующий месяц общения с англоязычными собеседниками оказал благотворное воздействие на мои давние, очень давние зачаточные успехи.
Читать дальше