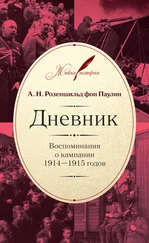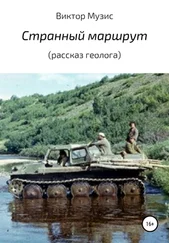В предыдущий наш приезд в Москву, когда мы оформляли договоры с Дальстроем, нам было предложено, чтобы мы повезли с собой в Магадан теодолиты, за что нам обещали забронировать билеты до Владивостока на курьерский поезд. Мы, конечно, согласились, потому что были рады возможности получить билеты без особенных хлопот. Теперь же оказалось, что теодолиты уже отправлены без нашего участия, а билеты нам все же взяли. Мы могли только радоваться этому, потому что и без теодолитов у нас багажа было немало.
А теперь нас провожали на перроне Ярославского вокзала Шура Гейзер с Литой, Лариса и Ангелина. Звучали прощальные возгласы, сердечные пожелания. Ведь всем нам казалось, что уезжаем мы надолго. Как будто все мы знали, что пробудем на Севере не 2 года и 4 месяца согласно договору, а ровно в 10 раз больше, как пробыли там в действительности. Поезд наш был транссибирский экспресс, который, впрочем, назывался курьерским № 2 и проходил свой путь от Москвы во Владивосток за 9 суток и несколько часов, делая в сутки более 1000 км. Помню, я тогда с удовлетворением отметил про себя прогресс, вспоминая, что за 9 лет до этого, в 1929 году, когда я, еще учась в Горном институте, ездил на практику на Урал, скорый поезд Москва — Владивосток проходил свой путь за 13 суток.
Наконец прозвучали звонки, и наш экспресс тронулся, набирая скорость. Впереди лежал длинный путь, который я раньше видел только до Урала, а брат — до Кузнецкого каменноугольного бассейна, где он побывал на практике. Мы предвкушали перспективу увидеть всю остальную часть пути: степи Западной Сибири, великие сибирские реки, Байкал, гористое Забайкалье, тайгу. Все это казалось очень интересным. Интересна была и перспектива пятидневного морского путешествия из Владивостока в Магадан. Там предстояло и преодоление трудностей, холодов, новое перетаскивание собственного багажа, жизнь в новых непривычных условиях. Но пока еще 9 дней можно было не думать об этом и отдыхать от беготни Москвы, от хлопот и перетаскивания багажа из камеры хранения Курского вокзала в тесную камеру Ярославского. Можно было отдыхать от всего этого, сидя в удобном купе, где кроме нас троих был только один пассажир, ехавший, как и мы, на Колыму.
У всех остальных пассажиров нашего вагона и всего поезда общим было то, что они ехали далеко и надолго. Многие из них ехали, подобно нам, в Магадан, но немало было и направлявшихся в Восточную Сибирь, в Забайкалье и в другие районы. Все везли с собой много багажа, и почти у каждого были с собой патефоны и множество пластинок к ним. Мы представляли собой даже некоторое исключение среди других, так как у нас не было ни того ни другого. В нашем купе тишина не нарушалась патефоном, но об этом можно было не жалеть, потому что кругом надрывались соседские патефоны. Кругом звучали популярные тогда «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась…», «Где же ты, моя Сулико?», «В моем письме упрека нет», «На рыбалке у реки тянут сети…», «У меня есть сердце, а у сердца…», «Листья падают с клена…», «Мне немного взгрустнулось без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться…», «Ваша записка в несколько строчек».
Запомнился мягкий перестук колес на стыках рельс, не прекращающийся сутки за сутками, и большую часть дня и вечера — звуки популярных песен.
Однообразно тянулось время час за часом и день за днем. Разнообразие вносилось только меняющимися картинками за окном вагона и укороченными в связи с движением на восток сутками и часами. Через три-четыре дня после начала пути стала уже заметной разница во времени. Стало заметно, что мы просыпаемся поздним утром, а ложимся спать поздно ночью. Изменилась и погода, заметно похолодало, появились довольно крепкие заморозки. По утрам можно было видеть иней на заиндевевших за ночь шпалах и рельсах и на щебне.
Много интересного видели мы в дороге, но самое интересное, оставляющее неизгладимое впечатление у всех, — это выход дороги из узкой долины Ангары на просторы Байкала. Я и сейчас помню, что брат Сережа по пути на Лену специально ездил сюда из Иркутска и потом восторгался в письме увиденным.
Мы проехали Иркутск, затем ехали по долине Ангары к ее истокам. Долина становилась все уже и теснее. Слева от нас навстречу быстро текли реки. Этот участок пути незабываемо красив именно при движении с запада на восток. Дорога вырывается из темной тесной долины Ангары на берег Байкала как-то неожиданно, несмотря на то что знали об этом задолго. Неожиданно темную узкую долину Ангары сменяют светлые просторы славного моря — священного Байкала. Слева открывалось необозримое голубое сверкающее зеркало неподвижного штилевого Байкала, когда мы достигли истоков Ангары и остановились на станции Байкал. Нам пришлось простоять здесь несколько часов, потому что впереди шел товарный поезд с негабаритным грузом на открытых платформах, который медленно проползал через все 48 туннелей на берегу Байкала.
Читать дальше
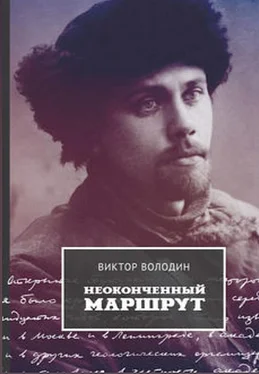
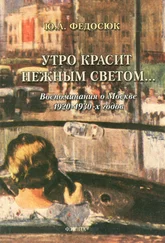

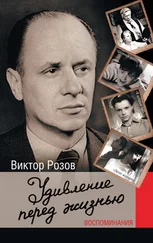

![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/397828/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres-thumb.webp)