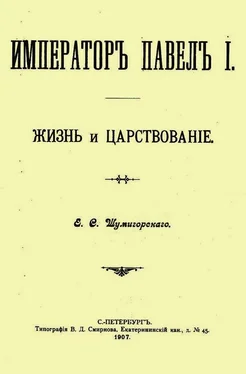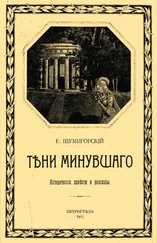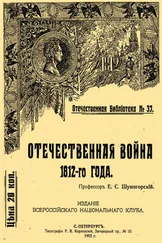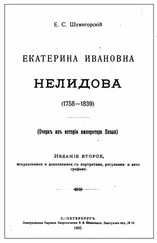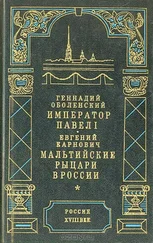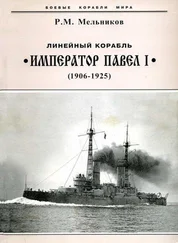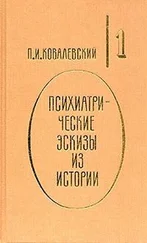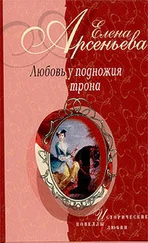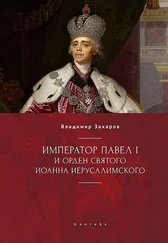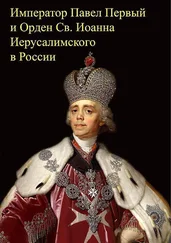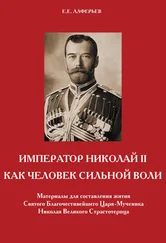Смягчающее, сдерживающее влияние на Павла оказывала его супруга, императрица Мария Феодоровна, и старый его друг, фрейлина Катерина Ивановна Нелидова, вновь появившаяся при дворе. Императрица Мария, не надеясь на свои силы и изведав на опыте чистоту побуждений Нелидовой, пожелала сблизиться с нею. 12 ноября императрица назначена была начальствовать Воспитательным обществом благородных девиц; в этот же день она посетила Смольный, увидалась там с Нелидовой и тогда же заключила дружественный союз с ней навсегда. Видимою целью союза было благо императора и империи. «Единение это, замечает по этому поводу графиня Головина, было для всех удивительным, если бы вскоре не стало ясным, что оно основывалось на личном интересе: без m-lle Нелидовой императрица не могла рассчитывать иметь какое либо влияние на своего супруга, как это и было потом доказано; точно также и Нелидова без императрицы, в стремлении своем вести себя всегда прилично, не могла бы играть при дворе той роли, которою она пользовалась и нуждалась поэтому в расположении императрицы, бывшей как бы защитой ее репутации». Действительно, Мария Феодоровна и в особенности Нелидова во многих частных случаях сдерживали императора и предостерегали от опрометчивых решений по первому впечатлению; но это женское влияние по существу своему было только паллиативом в общем ходе событий, так как коренным образом не могло изменить ни правительственной системы императора, ни характера его действий. Павел, с своей стороны, ценил привязанность к себе обеих подруг и доказал это на деле. Императрица должна была по закону получать по 500 000 р. в год, но Мария Феодоровна, по особому установлению Павла, получала миллион, потому что, как выразился император, «она советом и согласием своим помогла Нам утвердить на предбудущие времена тишину, спокойствие и блаженство государства в образе и порядке наследства, следственно помогла утвердить судьбу и состояние родов фамилии Нашей, чем Мы ей, как виновнице блаженства сего, и одолжены». Нелидова упорно отказывалась всегда от всяких пожалований, но Павел пожаловал ее матери имение с 2000 душ крестьян и осыпал наградами ее родственников.
Сыновей своих император назначил полковниками: великого князя Александра Павловича — Семеновского полка, Константина Павловича — Измайловского полка и малолетнего Николая Павловича — Конной гвардии. Вместе с тем, на наследника возложены были обязанности военного генерал-губернатора, совместно с Архаровым. Павел желал посвятить своего наследника в ход государственных дел и начал, разумеется, с дел военных. Оба старшие великие князья еще при Екатерине со страстью занимались в Гатчине мелочами военного дела, парадами и экзерцициями. По восшествии отца на престол, они первые явились во дворце в гатчинских мундирах, напоминая собою, по выражению современника, старинные портреты прусских офицеров, выскочившие из своих рамок. Со своими гатчинскими сослуживцами они увиделись в Петербурге с величайшею радостью. Вообще введение при дворе и в государстве военного режима было им по душе. Тем страннее читать в переписке Александра с Лагарпом жалобу его на то, что он принужден тратить свое время на исполнение обязанности унтер-офицера. Разгадку должно искать в двойственности его характера, а также в отношениях к отцу, который требовал от детей такого же строгого исполнения служебных обязанностей, как и от последнего офицера. Каждое утро, в семь часов, и каждый вечер, в восемь, великий князь подавал императору рапорт, так как, по званию военного губернатора, ему подчинены были комендант города, комендант крепости и обер-полицмейстер. «При этом необходимо было отдавать отчет о мельчайших подробностях, относящихся до гарнизона, до всех караулов города, до конных патрулей, разъезжавших в нем и его окрестностях, и за мельчайшую ошибку ему давался строгий выговор. Великий князь был еще молод, и характер его был робок; кроме того, он был близорук, и немного глух; из сказанного можно, заключить, что его должность, не была синекурой и стоила Александру многих бессонных ночей».
Оба великие князья смертельно боялись своего отца и, когда он смотрел сколько-нибудь сердито, они бледнели и дрожали, как осиновый лист». Отсюда завязались близкие отношения Александра с Аракчеевым, которого Павел дал ему в руководители по военной части и к которому обращался он во всех затруднительных случаях. Переписка его с Аракчеевым за это время свидетельствует, что ученик Лагарпа, уже в эту эпоху, чувствовал особую дружбу к главному гатчинскому инструктору [27].
Читать дальше