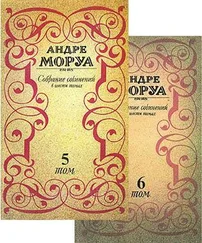XV
ANNUS MIRABILIS [29] Чудесный год (лат.).
О, кто не пишет женщинам в угоду?
Байрон
В Лондоне ему не пришлось, как в прошлый раз, ограничиваться только обществом Хэнсона и Далласа. Даллас передал «Чайльд Гарольда» Джону Меррею, издателю, входившему в моду. Байрон, возвращаясь с фехтования у Анжело или пистолетной стрельбы у Ментона, часто заходил к Меррею. Он вел себя шумно, жаловался на задержки в типографии, потом выбирал мишенью какую-нибудь книгу на полке и бросался на неё в атаку со своей тростью, повторяя: «Кварта, сикста — кварта, сикста», в то время как Меррей читал вслух новые песни, поэмы, принесенные Байроном. «Недурно, а, Меррей? Недурно? — спрашивал Байрон, не переставая фехтовать с книгой и повторять: «Кварта, сикста… кварта, сикста…» Меррей любил свои книги и вздыхал с облегчением, когда Байрон уходил. От Меррея Байрон обычно отправлялся обедать к Стивенсу со своим приятелем Томасом Муром.
Том Мур был тот самый Томас Литтл, чьи невинные эротические стихи несколько лет назад вызывали восхищение школьников Харроу. Когда появились в печати «Английские барды» Байрона, одна эпиграмма в этой сатире задела Мура, и он послал Байрону через Ходжсона письмо с вызовом. Байрон в это время уже уехал на Восток. Когда он вернулся, Мур справился о своем письме. Байрон ответил, что он его не получал. Навел справки и в подтверждение своих слов переслал Муру нераспечатанное письмо. Мур в это время только что женился на очаровательной молодой девушке и, не имея ни малейшего желания драться, предложил заменить дуэль завтраком.
Недолго думая, он решил устроить этот завтрак у Роджерса, прославившегося изысканностью своего стола не меньше, чем своими стихами. Сын либерального богача-банкира, Роджерс служил в отцовском банке и в двадцать семь лет внезапно удивил лондонское общество, напечатав неплохую поэму «Радости памяти». Поэт-банкир — это было ново. Лорд Илден, державший деньги у Гозлинга, сказал:
— Если бы мой Гэззи не только написал, а хоть бы произнес что-нибудь остроумное, я закрыл бы у него счет немедля, на другой же день.
Тем не менее Роджерс имел успех, и самые недоступные дома открылись для этого маленького, незаметного человека, остроумного, злого, тощего, как скелет, и белого, как труп. Труп не склонен действовать. Поступки Роджерса всегда отличались осторожностью и изысканностью. Он выстроил себе дом в прекрасном месте над Грин-Парком; отделал его тщательно, как поэму. Все здесь было совершенно: прекрасная мебель в строго классическом стиле; прекрасные картины; в библиотеке лучшие издания лучших авторов; на столах алебастровые вазы. Не хватало только женщины, но Роджерс оставался холостяком. Брак — это слишком решительный шаг для эстета, живущего не спеша. Иногда он говорил своей большой приятельнице, леди Джерсей:
— Если бы я был женат, у меня был бы, по крайней мере, человек, которым бы я дорожил.
— Да, — отвечала она, — но, может быть, ваша жена дорожила бы кем-нибудь другим.
Итак, он принимал один в своем чудесном доме, устраивал изысканные обеды, приправленные тонким и злым остроумием; но будучи злым столь же естественно, как эгоистом, он, однако, весьма великодушно распоряжался деньгами, что для богатого человека нередко является удобным способом сэкономить чувство.
Обед у Роджерса был произведением искусства. Стол, подбор гостей — все отличалось изысканностью. На этот завтрак примирения он, кроме Байрона и Мура, пригласил только поэта Томаса Кемпбелла и попросил их не показываться до прихода Байрона. Он знал, что молодой поэт хромает, и не хотел, чтобы он, войдя, почувствовал себя стесненным. Красота Байрона, благородство его манер поразили всех. За столом Роджерс предложил ему супу:
— Нет, благодарю, я никогда не ем супу.
— Рыбы?
— Рыбу тоже.
Подали барашка. На предложение Роджерса последовал тот же ответ.
— Стакан вина?
— Нет, я никогда не пью вина.
Роджерс в отчаянии спросил Байрона, что же он ест и пьет.
— Ничего, кроме сухих бисквитов и газированной воды.
К несчастью, ни того, ни другого в доме не оказалось. Байрон позавтракал картофелем, размяв его у себя на тарелке и полив уксусом. Несколько дней спустя Роджерс встретил Хобхауза и, узнав, что он друг Байрона, спросил:
— Долго ли лорд Байрон будет продолжать свою диету?
— До тех пор, — ответил Хобхауз, — пока вы будете обращать на это внимание.
С этого дня Байрон и Мур стали неразлучны. Байрон, «животное без друзей», жаждал к кому-нибудь привязаться. Он восхищался Муром, чувствовавшим себя так изумительно непринужденно в мире, в котором Байрон не знал ни души. А ведь Байрон был сеньором Ньюстеда, а Мур — сыном дублинского бакалейного торговца. Но Мур был одним из тех легких людей, рожденных пленять, чья своеобразная и в то же время почтительная манера держаться восхищает. С детства он обнаруживал изящную легкость в поэзии и музыке. В пятнадцать лет он переводил из Анакреона и импровизировал на клавесине ирландские песенки. Дублинские салоны оспаривали друг у друга этого драгоценного человека, столь незаменимого для оживления общества. Из этого будуарного воспитания он вынес беззаботную доверчивость к жизни и простодушную любовь к легкомысленным похождениям. Меррей его не любил, считая сплетником и снобом, но Байрон обрел в нем веселого друга, считавшего за счастье показываться с лордом, всегда готового петь, пить и веселиться. Мур казался ему «квинтэссенцией всего, что есть на свете приятного». Почти каждый вечер они обедали в Сен-Албенсе или у Стивенса. Обедал, собственно, Мур, а Байрон ел бисквиты и говорил:
Читать дальше