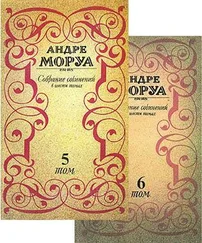Ходжсон, несмотря на то, что готовился в священники, находил, что сдвинуть Байрона с его метафизических позиций довольно трудно, потому что Байрон, собственно, не занимал никакой позиции: «Я не платоник, я вообще никто, но я бы предпочел быть кем угодно, только не принадлежать ни к одной из этих семидесяти двух сект, которые готовы разорвать друг друга во имя любви к Господу… А что касается вашего бессмертия, если мы должны ожить, зачем тогда умирать? Вы говорите, наши скелеты должны восстать из гроба в один прекрасный день, да стоят ли они того? Во всяком случае, сети мой скелет воскреснет, я надеюсь получить пару ног получше той, что мне была дана в эти последние двадцать два года, или меня, а уж это как-то очень нелепо, совсем затолкают в этом хвосте, который образуется перед раем».
После каникул гости уехали, и он остался один, покинутый даже своими любовницами-служанками, ибо он только что открыл, что одна из них, к которой он немножко привязался, обманывала его с каким-то парнем. Событие ничтожное, если бы он не почувствовал себя невероятно задетым.
— У меня к вам просьба, — сказал он Ходжсону, после того как посвятил его в эту трагедию, — никогда не говорите мне о женщинах, ни в одном письме, и даже не напоминайте мне о существовании этого пола.
Нет, действительно в мире не было ни одного существа, на которое можно было опереться… Он с грустью вспоминал веселые крики маленьких итальянцев под апельсиновыми деревьями у памятника Лизикрату. «Я становлюсь нервным… Ваш климат убивает меня; я не могу ни читать, ни писать, ни развлекаться, ни развлекать других. Дни без работы, ночи без отдыха; у меня очень редко бывает какое-нибудь общество, а когда бывает, я от него бегу». Что делать в этом зимнем могильном Ньюстеде? Продолжать «Чайльд Гарольда»? Ему нужно солнце и голубое небо: «Я не могу описывать пейзажи, которые мне так дороги, сидя у тлеющих углей».
В очень интимном и очень искреннем письме к одному из своих друзей он говорил:
«В последние годы моей жизни я веду непрерывную борьбу с чувствами, которые так отравили первую половину моей жизни; хотя я горжусь тем, что почти их преодолел, бывают минуты, когда я чувствую себя таким же наивным, как и раньше. Я никогда столько не говорил о себе и не сказал бы и вам, если бы не боялся, что был немножко груб и не хотел бы объяснить вам причины. Но вы знаете, что я не из ваших джентльменов-doloroso [28] Страдалец (ит.).
: так давайте же теперь смеяться». Действительно, он никогда столько не говорил, а в этом и был ключ от всех его внешних противоречий. В течение нескольких лет он старался убить в себе сентиментала, который когда-то заставил его жестоко страдать. Слишком мужественный для того, чтобы удовлетвориться ролью «джентльмена-doloroso», но убежденный в том, что потерял всякую веру в женщин и мужчин, он пытался жить корсаром наслаждений, без любви и без дружбы. Несчастье было в том, что в этом бездействии чувств он смертельно скучал.
У людей, много страдавших, но которых привычка или забвение излечили от страданий, есть изумительная способность скучать; это происходит оттого, что страдание, делая нашу жизнь невыносимой, в то же время наполняет её такими сильными переживаниями, что они делают неощутимой её пустоту. Байрон начал жизнь с большой любви. Эта любовь была несчастьем, но она внушала мальчику потребность в сентиментальном возбуждении, которое для него стало необходимым. Как ребенку, попавшему в сказочный дворец и избалованному сладостями, всякая здоровая пища кажется пресной, так Байрон в сердечном спокойствии не ощущал вкуса жизни. Он чувствовал себя способным погнаться за любой сильной страстью, пусть даже преступной, только бы она вернула ему вечно ускользающее ощущение собственного бытия. Тому самому Ходжсону, который уговаривал его быть повеселей, он писал стихи, в которых еще раз выступала Мэри Чаворт:
Оставим. Молча, не стеня,
Забыть восточные края…
…Но если в будущем услышишь
О ком-то дальнем, чей порок
С угрюмым веком слиться мог,
Его узнаешь — а узнавши,
Доищешься и до причин.
«Бедный мальчик, разумеется, ни о чем подобном не думает», — пометил на полях Ходжсон, оптимист и снисходительный человек. Но Байрон был существом более несчастным и сложным, чем думали его друзья.
Он решил уехать и пожить в Лондоне; там у него, по крайней мере, будут парламент и корректура. «Что угодно, только бы избавиться от спряжения этого проклятого глагола — скучать».
Читать дальше