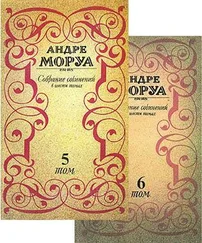«Я хранил половину вашего букетика, пока он совсем не завял, и даже тогда я не мог решиться его бросить. Я не могу этого объяснить. Думаю, что и вы не можете». Он любил Байрона больше, чем сам в этом признавался. Во время путешествия он находил, что с ним трудно жить, что он сумасброден, подозрителен, но в то же время неотразим. Что же касается Чайльд Гарольда — сентиментальный в стихах, он отнюдь не был сентиментален в прозе.
«Ваше последнее письмо заканчивается патетическим постскриптумом по поводу букетика; советую вам включить его в ваш будущий роман. Я не подозревал в вас столь прекрасных чувств и полагаю, что вы изволили шутить, но я люблю шутки».
* * *
Во время своего вторичного пребывания в Афинах Байрон поселился в монастыре капуцинов. Местоположение было замечательное: прямо напротив возвышался Гимет, позади Акрополь, направо храм Юпитера и налево город. «Да, сэр, это вам уголок, это вот живописное зрелище! Ничего подобного в вашем Лондоне, сэр, куда там Меншенхауз!» В одной из стен монастыря в нише стоял памятник Лизикрату; здесь из маленького круглого храма монахи устроили библиотеку, она выходила в сад, где росли апельсиновые деревья. Жизнь в этом монастыре не отличалась святостью. Кроме Padre Abbate [22] Отец-настоятель (ит.).
, здесь помещалась scuola [23] Школа (ит.).
, в которой было шесть ragazzi [24] Мальчишки (ит.).
, подростков; трое из них были католики и трое православные. Байрон устраивал боксерские состязания между католиками и православными, и отец-настоятель радовался, когда побеждали католики. Жизнь здесь напоминала жизнь в колледже, веселую, шумную, распущенную, и Байрон, который всегда с грустью вспоминал своих товарищей по Харроу, окунулся в эту жизнь с детской радостью. Он тапас же проникся покровительственной любовью к юному Николо Жиро, новому Эдльстону, французскому протеже и греческому подданному, который говорил по-итальянски и учил этому языку Байрона. «Я его «padrone» и его «amico», и один Бог знает, что еще. Часа два назад он объявил мне, что самое большое его желание — ездить за мной по всему свету, и тут же заключил, что мы не только должны жить вместе, но и умереть вместе…»
Целые дни стоял сплошной хохот. Утром Байрон просыпался под крики этих сорванцов: «Venite abasso» [25] Идите вниз (ит.).
, на что торжественный голос капуцина отвечал: «Bisogna bastonare» [26] Получите порку (ит.).
. Интригам не было конца. Мамаша Терезы Макри снова появилась на сцене. «Она так глупа, что вообразила, что я женюсь на её крошке; но у меня есть развлечения получше». Флетчер, женатый человек, который страдал от разлуки со своей Салли, завел себе возлюбленную, гречанку. Оба слуги-албанца и переводчик последовали его примеру. «Да здравствует любовь! — писал Байрон Хобхаузу. — Я болтаю со всеми хорошо или плохо и перевожу молитвы из катехизиса, но мои уроки прерываются всякими выходками; мы объедаемся фруктами, бросаемся кожурой, играем; в общем, я опять в школе и делаю так же мало успехов, теряя время даром, как и раньше». По вечерам у отца-настоятеля устраивались замечательные приемы турецких сановников. Фиванский муфтий и афинский губернатор напивались, невзирая на Магомета, и аттический праздник отмечался на славу.
Разумеется, нужно было переплыть бухту Пирея. Мальчишка Николо плавал очень скверно. Однажды Байрон прыгал с мола, кто-то со стоявшего неподалеку парусника окликнул его по-английски. Это оказался маркиз Слито, школьный товарищ Байрона по Харроу. Он приехал на своем бриге с леди Эстер Стэнхоп. Байрон обрадовался этой встрече; он совершил с ними несколько экскурсий, но в присутствии этих англичан чувствовал себя далеко не так непринужденно, как со своими маленькими итальянцами. Леди Эстер отзывалась о нем довольно строго: «У него порочный взгляд, очень близко поставленные глаза и сдвинутые брови… Странный характер: великодушен с умыслом, жаден с умыслом; как-то раз он был очень мрачен, и никто не смел с ним разговаривать; на следующий день он требовал, чтобы с ним шутили». Эту черту замечали в нем все, кто встречался. Замкнутый в самом себе, не обладая способностью представлять чувства других людей, он считал капризы своего настроения обязательными для всех и наивно возмущался, когда чужая веселость или грусть казались ему несвоевременными. В его собственных глазах Байрон, попыхивающий трубкой и пощипывающий свой ус, где-нибудь между Гиметом и Акрополем, был вполне естественным явлением, вроде как скала среди гор; ему нравились наивные люди, взиравшие на эту довольно-таки крутую скалу с восторгом и удивлением.
Читать дальше