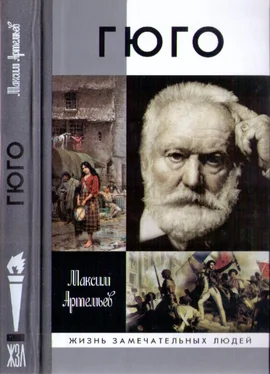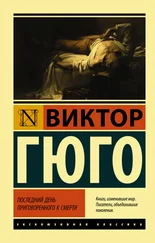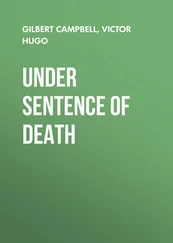В детстве я не читал Виктора Гюго, хотя его «огоньковский» десятитомник фиолетового цвета, стоявший на книжной полке у моего друга Женьки Ефимова, привлекал воображение элегантной фамилией автора. Впрочем, вспоминаю, ещё дошкольником я слышал пересказ о компрачикосах из «Человека, который смеётся» от своих дядей, тогда ещё подростков, пугавших меня подобными страшилками.
В сентябре 1988 года, на первом курсе института, когда нас отправили на сельские работы, у моего нового товарища, Сашки Карташова, оказалось два тома из упомянутого собрания сочинений — «Девяносто третий год» и «Труженики моря». Других книг не имелось, и я проглотил их запоем. Почему-то риторика романов пришлась мне по вкусу. Перед тем, ещё старшеклассником, я прочёл биографию Гюго в серии «ЖЗЛ», вышедшую в 1961 году, написанную Натальей Муравьёвой.
Вскоре попалась «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» Андре Моруа, после которой я навсегда стал поклонником великого французского писателя. Помнится, тогда же, не зная ни слова по-французски, я купил в тульском книжном магазине двуязычный сборник стихов Гюго в суперобложке и с наслаждением рассматривал непонятные мне строки.
Можно сказать, что подготовка к написанию этой книги длилась почти 30 лет. Ради Гюго я стал учить французский язык — хотелось прочитать в подлиннике то, что так восхищало и восхищает его соотечественников; к тому же многие шедевры писателя на русский язык никогда не переводились. Посещая в первый раз Париж, я побывал в Доме-музее Виктора Гюго на площади Вогезов, куда прежде уже писал, желая разобраться в сборниках его стихотворений, и откуда получил ответ — бандероль с распечатками стихов и копии страниц из энциклопедии о нём.
Чем больше я узнавал о Гюго, тем сильнее удивлялся его непониманию у нас, при всей вроде бы известности и популярности. Противоречие между восприятием его на родине и за рубежом, в данном случае — в России, где он остаётся самым неизвестным из французских классиков, бросалось в глаза.
Когда мы говорим о национальных литературах, то с ними обычно ассоциируется имя первого поэта страны — Пушкина, Шекспира, Гёте, Данте. Но если речь заходит о Франции, то такового назвать затруднительно. Как-то по умолчанию принимается, что она — страна без Поэта. Но это не так — Гюго и является тем, кого именуют национальным поэтом. Разумеется, эта оценка не бесспорна, французская литература так богата гениальными дарованиями, что у читателя всегда есть выбор, кого предпочесть. И диапазон широк — от Расина до Бодлера. Но всё же, с поправкой и на нынешнюю литературоведческую моду, склонную отрицать авторитеты и привычные иерархии, надо признать, что большинство знатоков отдают пальму первенства Виктору Гюго. Это и приверженец классики Андре Моруа, и эстет и декадент Андре Жид, и модернист и тонкий интеллектуал Поль Валери, а ещё раньше беспощадный реалист Гюстав Флобер и ярый враг всякой сентиментальности Шарль Бодлер.
Однако за рубежом Гюго известен только как автор романов, в первую очередь «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери». Он слишком национальный поэт, подобно Пушкину, чтобы быть популярным за пределами Франции, ибо его стихи невозможно адекватно перевести на иностранные языки.
Гюго действительно очень французский поэт. Ему свойственны риторика, театральность, склонность к декламации, строгий подбор словаря, чёткие рифмы и размеры — всё то, что на протяжении веков являлось отличительным свойством именно французской поэзии. Эти требования, может быть для кого-то стеснительные, для Гюго являлись естественными и в полной мере отражали особенности его дарования.
«Гюго» — упругое и короткое слово, всегда казалось мне квинтэссенцией французского, хотя на самом деле фамилия германского происхождения — Hugo, то есть «Хуго́». Сам поэт называл её «саксонским именем». В традициях XIX века в русской транскрипции сделали произносимой начальную немую «h», да ещё как «г». В действительности по-французски фамилия звучит «Уго́», точнее «Юго́», если только в «ю» не произносить начальную «й».
Гюго — почти ровесник Пушкина, на полтора года старше Тютчева и на семь лет — Гоголя, но кажется намного более современным, чем они. Ментально он гораздо ближе нам, даже чем Лермонтов; и это неудивительно: «Отверженные» вышли почти одновременно с романами Тургенева «Отцы и дети» и Толстого «Война и мир», а «Девяносто третий год» — после «Преступления и наказания» и «Бесов» Достоевского. Раннее творческое начало и долгая жизнь Гюго обусловили то, что первые стихи он написал при Державине, а последние — когда уже печатался Чехов. Он, как никто другой, может претендовать на звание писателя, вместившего в своё творчество XIX век и наиболее полно отразившего его.
Читать дальше