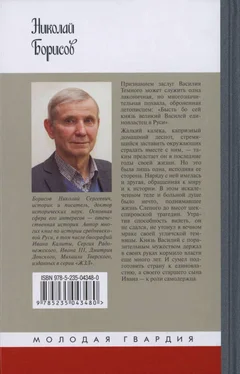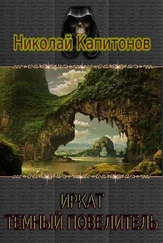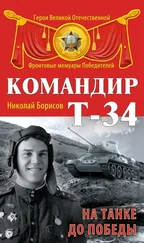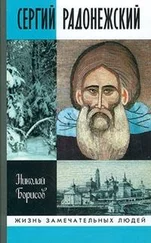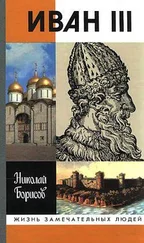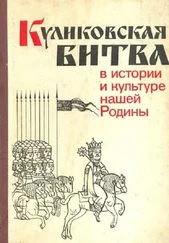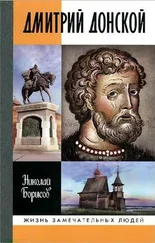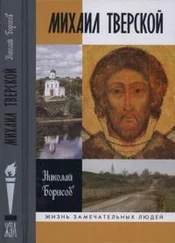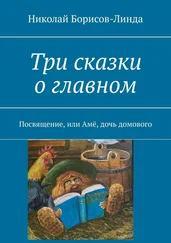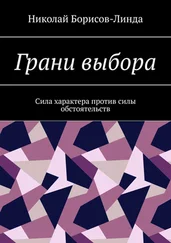Предпринятый Василием Тёмным в начале 1461 года поход на казанских татар завершился вполне благополучно. Хан выслал навстречу русскому войску своих послов с мирными предложениями, которые устраивали великого князя. Во Владимире был заключён мир. Впрочем, этот первый мир с Казанью лучше было бы назвать перемирием: у Московской Руси впереди было ещё немало войн с беспокойным восточным соседом.
Вернувшись в Москву, Василий Тёмный вместе с иерархами приступил к избранию нового митрополита. Вопрос этот обсуждался ещё при жизни престарелого Ионы, который назвал и благословил своего преемника. Выбор святителя пал на ростовского архиепископа Феодосия Бывальцева. Этого иерарха хорошо знали в Москве. В течение десяти лет он был архимандритом Чудова монастыря в московском Кремле — любимого детища святителя Алексия. С этого поста в июне 1454 года митрополит Иона взял его на освободившуюся с кончиной архиепископа Ефрема (29 марта 1454 года) ростовскую кафедру. Хиротония (рукоположение) Феодосия состоялась, судя по всему, в Неделю всех святых — 16 июня 1454 года. В следующее воскресенье, 23 июня 1454 года, новопоставленный владыка торжественно въехал в Ростов(34, 184).
Едва успев утвердиться на ростовской кафедре, Феодосий чуть было не потерял её. Митрополит Иона «въсхоте сан снять с него» (31, 263). Причиной (или поводом) для опалы стало самоуправство нового владыки в весьма щепетильном вопросе о соотношении постов и праздников. Согласно церковным уставам, строгость поста ослабевала в воскресные дни и праздники. Однако степень послабления в те или иные дни определялась по-разному. Эта тема издавна вызывала споры в среде духовенства. В 1455 году Крещенский сочельник, день строгого поста, приходился на воскресенье 5 января. Новый владыка «повеле мясо ясти в навечерии Богоявления» (31, 263). Такое толкование устава о посте предлагал ещё митрополит Фотий в одном из своих посланий (63, 500). Однако решение Феодосия вызвало ропот духовенства. Дело дошло до митрополита Ионы, который счёл, что архиепископ превысил свои полномочия. Известно, что Иона был крут в обращении со своими недругами. Вот и теперь он решил примерно наказать самоуправца и снять с него епископский сан. Дело разбиралось на особом церковном соборе, в присутствии Василия Тёмного и бояр. Феодосия спасло только заступничество великой княгини Марии Ярославны, которая «отпечаловала его у митрополита» (31, 263). Независимый летописец замечает, что помощь княгини была куплена ценой щедрой взятки: «...а взя у него село Петровское от печалования» (31, 263).
В этой истории ярко отразились не только нравы московского двора, но и характер будущего митрополита Феодосия. Это был истинный ревнитель благочестия. Он не боялся нарушать традицию, если считал, что она расходится с истиной. Вместе с тем он был близок к великокняжеской семье и особенно — к великой княгине Марии, имевшей обширные владения в Ростовской земле.
Благодаря вмешательству великокняжеской семьи Иона вынужден был простить Феодосию его самонадеянность. Со временем он и вовсе изменил отношение к ростовскому владыке и даже счёл возможным назвать его своим преемником на митрополичьей кафедре.
Наличие общепризнанного кандидата значительно ускоряло процедуру избрания собором великорусских епископов нового главы Церкви. Согласно большинству летописей это произошло в воскресенье 3 мая 1461 года — даже до окончания 40-дневного траура по Ионе (20, 273; 33, 156)!
(Типографская летопись называет другую дату — суббота 9 мая, на 40-й день по кончине митрополита Ионы (34, 185). Но и в том и в другом случае такая поспешность вызывает недоумение. Впрочем, первая дата кажется более достоверной ещё и потому, что поставление иерархов обычно совершалось в воскресенье).
Выбор именно этого воскресного дня — 3 мая — объяснялся просто: то был день памяти преподобного Феодосия Печерского. Очевидно, Феодосий Бывальцев принял постриг и получил своё монашеское имя как раз в этот день. Теперь он хотел взойти на кафедру в памятный для него день — 3 мая. Судя по тому рвению, с которым новый митрополит принялся за исправление нравов приходского духовенства, он был истинным последователем сурового аскета преподобного Феодосия Печерского.
В эти годы в Москве оживает каменное строительство. Летом 1460 года была возведена каменная церковь Богоявления на подворье Троице-Сергиева монастыря в московском Кремле. Вероятно, строительство носило мемориальный характер и было каким-то образом связано с поездкой Василия II в Новгород. На следующее лето в Кремле развернулось новое строительство. На сей раз заказчиком был сам Василий Тёмный. Он решил отстроить в камне старинную кремлёвскую церковь Иоанна Предтечи. (Годом ранее эту работу начал второй сын Василия, княжич Юрий). Летопись сопровождает это известие любопытным комментарием: «Того же лета князь великий Василей Васильевич поставил на Москве церьковь камену Рожество Иоанна Предтечи у врат Боровицких, а преже бе древяная. Глаголют же, яко то прьваа церковь на Москве: на том де месте бор был, и та церковь в том лесу срублена, то же де тогда и соборнаа церковь была, при Петре митрополите, и двор митрополич туго же был, где ныне двор княже Иванов Юрьевича (Патрикеева. — Н. Б.)» (24, 114).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу