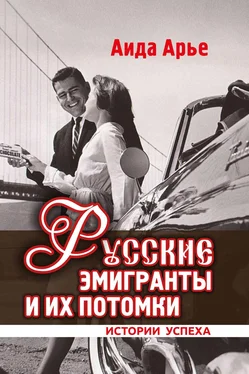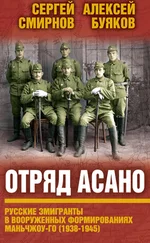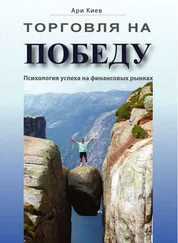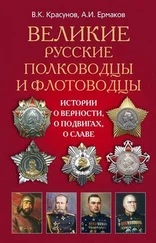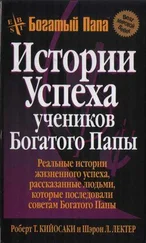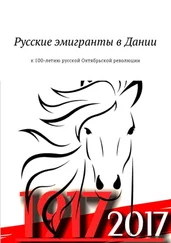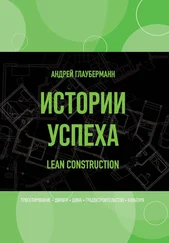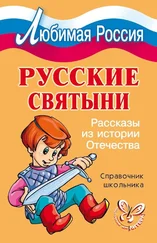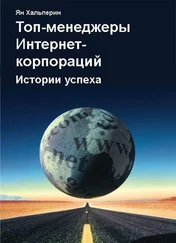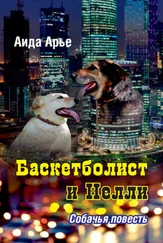Художник стойко выдержал несколько операций и переливаний крови. Несмотря на серьёзные последствия, Владимир старался относиться ко всему с самоиронией и в дальнейшем не раз повторял, что в его тело влили столько крови местных жителей, что ему впору поменять имя на ван дер Третчи. В общей сложности он провёл в госпитале два месяца и к немалому удивлению врачей не только выжил, но и смог восстановить свои поломанные руки.
Выставку в Харродс пришлось отложить, но только на год. В 1962 г. Третчиков вновь был готов завоёвывать Лондон, а за ним – и всю Англию. И словно в качестве компенсации за подорванное здоровье, английские СМИ и публика оказались к нему благосклонны. Лондон буквально закружил его в водовороте событий: не успел художник обустроиться в гостинице, как его уже звали в программу «Вечерние новости» на Би-Би-Си. Публика вновь была готова отстаивать длинные очереди в выставочные залы, и в общей сложности за четыре недели выставку посетили более 205 000 человек. Спрос на постеры взмыл до небывалой высоты, и теперь картины русского эмигранта заняли почётное место в консервативных английских домах, потеснив над камином даже традиционные классические пейзажи Джона Констебля!
Мало того, на этот раз официальные лица ЮАР, наконец, поняли, что Третчи может стать неплохой рекламой для их страны. Когда выставка была в самом разгаре, Владимира неожиданно посетил глава представительства ЮАР в Лондоне и предложил оригинальную идею – выставить несколько картин Третчикова в окнах представительства, чтобы весь город мог узнать, откуда он. Художник не возражал – предложение казалось взаимовыгодным, способствующим продвижению как его самого, так и его страны.
Для многих произошедшее может показаться всего лишь незначительным эпизодом, однако несколькими годами позже это ноу-хау подхватят многие современные художники. Признанный критиками король поп-арта Энди Уорхол тоже будет выставлять свои работы в окнах, а газеты назовут этот приём чуть ли не революционным. Как ни странно, этих двух абсолютно разных художников в дальнейшем будут сравнивать, говоря, что «Третчиков достиг всего, чего хотел достичь Уорхол, но не смог из-за своей холодности». Однако их судьбы в мире критиков так и останутся диаметрально противоположными: Уорхол будет признан чуть ли не гением, тогда как Третчиков надолго останется в когорте «плохих парней», занимающихся исключительно коммерческим искусством «на потребу публике».
Поездка в Англию принесла Третчикову ещё одно неожиданное известие. Когда в его номере зазвонил телефон, Владимир был готов услышать кого угодно, но не Ленку. Нельзя сказать, что связь между ними окончательно прервалась после того, как Владимир покинул Индонезию, но всё-таки общение сводилось в основном к редкому обмену письмами. Оба были рады услышать друг друга и начали предаваться воспоминаниям, пока Ленка вдруг не спросила о судьбе своего портрета.
Не чувствуя подвоха, Третчиков честно признался, что продал его больше года назад.
«Как ты мог? Разве ты не знаешь, что это – дурной знак? Разве я не говорила тебе, что в этом портрете живёт гуна-гуна?» – после этих слов Ленка рассерженно кинула трубку.
Поначалу Третчиков не придал этим словам большого значения. Конечно, он и сам верил знакам свыше, но всё-таки суеверность Ленки даже ему казалась излишне экзальтированной. Однако в 1969 г., уже после второй аварии, он всё-таки поспешил выкупить «Красный Пиджак» и не успокоился, пока не повесил его на прежнее место. Ведь кто знает, на что способны эти гуна-гуна? Что, если третья авария станет для него последней?
* * *
Шли годы, бунтарские 1960-е закономерно сменились 1970-ми, вкусы людей менялись, а вместе с ними уходили в прошлое ещё недавно модные вещи, уступая место новым трендам. Имя Третчикова постепенно начинает отходить на второй план, а интерес к его творчеству заметно угасает. Более того, старания многочисленных критиков также не прошли бесследно: уже к концу 1960-х картины художника начинают постепенно восприниматься как признак избитого, примитивного вкуса. Некоторые режиссёры даже использовали его «Зелёную леди» в своих фильмах, чтобы подчеркнуть мещанское мировоззрение обитателей дома. Наконец, газеты придумывают новое прозвище для Третчи, которое, кажется, закрепилось за ним уже навсегда – «Король китча». Хотя сам Третчиков так и не полюбил этого прозвища – пожалуй, репортёры тогда действительно смогли его обидеть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу