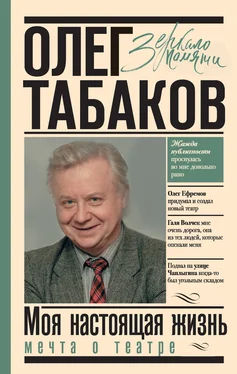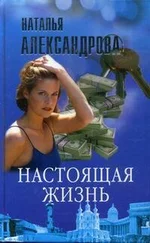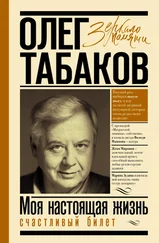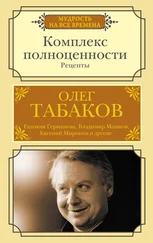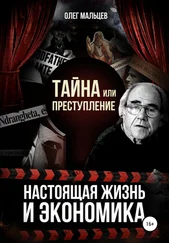Узнаваемость созданного Евстигнеевым образа была прозрачна до такой степени, что под конец спектакля смех в зале становился болезненным, распирающим людей изнутри, и создавалось такое впечатление, что люди проглотили мыло и повсюду летали пузырьки… Нагромождение потрясающих Жениных находок действовало на меня так же неотразимо, как и женские прелести Нины Дорошиной.
Сам я играл сразу три роли в этом спектакле. Мой Дирижер был человеком с головой Людвига ван Бетховена – власы до плеч. Алкогольное отравление было не просто привычным состоянием его самочувствия, а еще и некоторой защитой, потому что жить в постоянном стрессе от ожидания, что тебя вот-вот заберут, да еще художнику, человеку, занимающемуся нервным творческим трудом, чрезвычайно трудно. Кроме парика, я еще придумал себе такой беленький узелок, который все время таскал с собой, и когда меня, наконец, забирали, я уходил, прихватив его с собой. Эта деталь вызывала удивительную приязнь и волнение зрительного зала, отвечавшего: «Это про нас. Мы жили так». Мне рассказывали, что у многих существовали такие «узелки»: у одних – рюкзаки, у других – безразмерные портфели из «ложного крокодила», как написал Аксенов в «Затоваренной бочкотаре».
Второй персонаж, Повар, находился все время у плиты и одновременно с этим постоянно вызывался на общественные работы – в частности, для того, чтобы принимать участие во всенародном ликовании по поводу выхода Короля на люди. От плиты – в холод, от плиты – в холод, и я подумал, что мой Повар – хронически простуженный человек, который должен чихать все время. (И очень я в этом чихании исхитрился, иногда даже в жизни пытаясь разрушить атмосферу серьезности или трагизма художественным исполнением «чихов». А потом уж и студентов своих учил чихать столько, сколько нужно, и тогда, когда нужно.)
Все, без исключения, подданные Короля рекрутировались для выполнения подневольных рабских обязанностей: приветствовать, восторгаться, поддерживать, аплодировать, прославлять. Инспекцию готовности всех королевских служб проводил Первый министр: «Поэт готов? Готов! Ученый? Готов! Еда готова? Готова! Все! Давай!» И тогда на сцену выходил Король.
Третья моя маленькая роль – человек из народа, когда ребенок голосом Лены Миллиоти или Наташи Энке кричал: «Папа, а король-то голый!» – и тут начинался шабаш веселья революционного народа, который, честно говоря, был мне не очень симпатичен, и поэтому я всегда старался поскорее свалить со сцены. Таким был финал спектакля. Не то чтобы это была неправда… Но все дело в том, что я не коллективист по натуре, а скорее индивидуалист, и мне все коллективные действия, будь то радость или что-то еще, не по нутру…
А вскоре, благодаря Евстигнееву, в моей актерской судьбе свершился долгожданный поворот: все получили внятное подтверждение тому, что я действительно комический артист. Зимой 1961 года вышел спектакль «Третье желание» по пьесе Братислава Блажека, которую поставил Женя, первый и последний раз шагнувший в режиссуру. Много позже он пришел в Школу-студию, учил студентов, ставил дипломные спектакли, но это уже было совсем по-другому.
Талант Евстигнеева был столь внятен и заражающ, что только на одно его присутствие уже невозможно было не отозваться и не стать хоть немножко искуснее. Играли Миша Козаков, я, уже пришедший в театр Валя Никулин, Володя Паулус, Мила Иванова, Люся Крылова, Наташа Архангельская. Я был ассистентом-режиссером у Жени. Каким? Да, наверное, никаким в этом спектакле. Будучи влюблен в Евстигнеева, я был готов в любом качестве быть рядом с ним на сцене, хоть чем-то ему помогая.
Комедия «Третье желание» была написана по достаточно традиционной сказочной схеме: история того, как проявляют себя люди, неожиданно соприкоснувшиеся с волшебными возможностями. До сих пор не ясно, как могла прийти в голову Евстигнеева счастливая мысль поручить мне, доселе игравшему романтических мальчиков, роль пятидесятилетнего Ковалека, маляра-алкаша, ставшего случайным свидетелем того, как один старичок передал интеллигенту Петру право на три желания, которые обязательно исполнят некие волшебные силы, и взявшегося шантажировать Петра и его семью, требуя доли.
Предлагаемые обстоятельства роли были на редкость выгодными: на протяжении тридцати минут сценического времени мой персонаж последовательно напивался, каждый раз предваряя новый этап своего алкогольного отравления тостом, который я придумал сам: «Причина – та же». В дальнейшем реплика была взята на вооружение как актерами нашего театра, так и некоторыми верными зрителями «Современника».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу