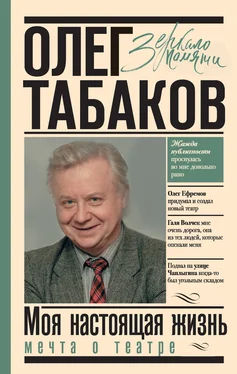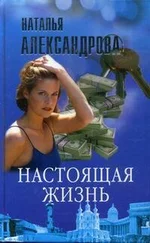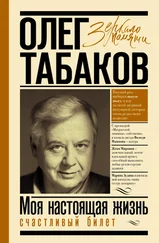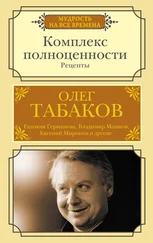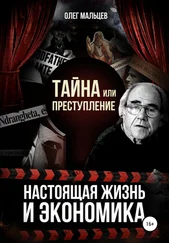Перебирая слова заупокойной молитвы, я обязательно называю и ее.
Наталья Иосифовна, без всякого преувеличения, – моя крестная мать в актерской профессии. А может быть, и в педагогике, которой я до сих пор отдаю немало времени.
Не думаю, чтобы Сухостав всерьез и определенно видела своей задачей воспитание молодых профессиональных артистов или что у нее был какой-то особый, продуманный и просчитанный педагогический метод. Но факт, что получалось это у нее великолепно. Еще до меня некоторые ее студийцы прорвались в актеры. А после пошел уже безостановочный поток. В результате из школьного театра Сухостав вышло сто шестьдесят актеров! Феноменальный результат для провинциального самодеятельного коллектива.
Как мне представляется сейчас, главным у Сухостав была установка на раннюю профессионализацию актера. У Натальи Иосифовны было исключительное чутье селекционера. Актерскую одаренность она безошибочно умела обнаруживать и вытаскивать на белый свет. Такого рода чутье у театральных педагогов встречается не столь часто. Смею надеяться, что подобное дарование есть и у меня. Сорок лет небезуспешной педагогической практики дают мне право сказать такое более-менее определенно. После долгих размышлений я пришел к стойкому убеждению: актера надо воспитывать с раннего детства. Принцип ранней профессионализации стал частью моей педагогической системы. Слово «система» я употребляю здесь отнюдь не в полемике или в сравнении со Станиславским. У любого педагога после десятилетий труда естественно выстраивается некая собственная система – набор методических приемов.
Ранняя актерская востребованность катализирует развитие. Как в спорте. Актер должен рано вкусить успех. Пусть наивный, как у нас в «Молодой гвардии», но обязательно еще до овладения основами ремесла. Это дает и перспективу роста, и понимание относительности самого успеха. Понимание, что в театре это как раз не главное. Что это и есть как раз самое простое.
Актер обретает свободу, только испытав успех. И чем больше успех, тем больше шансы обретения настоящей внутренней свободы, когда тебя «несет». Как у Булгакова – «За мной, мой читатель!» И вы магически следуете за ним, как за дудочкой Крысолова.
У нас слишком боятся штампов, прививаемых в дурной самодеятельности. Но это не страшно. Главное, чтобы человеку была отпущена энергетика, чтобы он мог сказать: «За мной, мой зритель!» На моей памяти не слишком многие актеры обладали этим.
Наталья Иосифовна, очевидно, хорошо понимала значение успеха, важность пребывания артиста на сцене, на публике. Она давала всем нам играть много и разнообразно, и уже в девятом классе я познал радость маленьких артистических триумфов. Это ни с чем не сравнимое ощущение – играть на сцене. Быть может, поэтому сцена была и остается настоящим праздником моей жизни, «праздником, который всегда со мной».
В «Молодой гвардии» навсегда было прочувствовано счастье ранней призванности, ранней востребованности. Полученные, быть может и не совсем заслуженно, аплодисменты были своего рода долговыми обязательствами надежды, намного опережавшими реальный вклад, реальное постижение актерского мастерства. Но они двигали вперед, открывали второе, третье, четвертое дыхание.
Пришло ощущение себя, своих возможностей… И одновременно – поразительное юношеское чувство вечности жизни, когда корневая генеалогическая система еще крепка и кажется, что ты не умрешь никогда, а впереди будут только радость, успех и счастье.
«Блажен, кто смолоду был молод…»
Сухостав дала исходный импульс профессии. Дальше уже никто и ничто не могло меня остановить. И потому я пер как бульдозер. Все происходило как бы само собой, без особых творческих трагедий.
За год до окончания школы я начал подготовку в актерский институт. Читал все подряд: Станиславского и Немировича, его «Из прошлого». Замечательные книги Ольги Ивановны Пыжовой, Марии Иосифовны Кнебель…
Одной из самых заветных и дорогих до сих пор остается книга Михаила Чехова «Путь актера». Купил ее незадолго перед отъездом в Москву.
Михаил Чехов – манящая, загадочная фигура. Темная актерская звезда XX века. Мне тягостны все эти современные «чеховские» школы. Чехов был гений. Знаете, как о нем говорил Евгений Багратионович Вахтангов? «Миша, ты – лужа, в которую улыбнулся Господь Бог». И то, что называют системой Чехова, – просто его личные озарения. Надо трезво смотреть на его творческий путь: нельзя же сказать, что работа Чехова в Голливуде, в какой-нибудь симпатичной «Рапсодии», конгениальна Гамлету или Эрику… Нет, это совсем другая история. А у нас в который уже раз начинают малевать персону того или иного покойника, канонизируют его. Делаются чудовищные вещи. Неплохие, в принципе, люди ведут себя как нелюди, стирая самобытные отпечатки пальцев своего кумира. Уникальный дактилоскопический рисунок исчезает, получается что-то среднеарифметическое. Среднеарифметический гений. «Мы назначаем гением имярек». По-моему, отвратительное занятие. В этом смысле я всегда в меньшинстве. Многие коллеги интересуются наследием Михаила Чехова всерьез, строят теории, чертят графики… Из всего этого устраивается некий класс (за посещение которого берутся хорошие деньги), школа, курс, где совершаются коллективные прозрения, коллективное познание чеховской методики и чеховской души, которые, кстати, были обильно замешаны на Блаватской и теософии. Получается спиритизм какой-то. Ну не может же сам Михаил Александрович встать из гроба и поправить своих учеников и поклонников конца второго и начала третьего тысячелетия! Мне интереснее другое – угадывать состояние души этого гения. Педагогика, на мой взгляд, – всегда интуиция, всегда прямое и индивидуальное общение душ учителя и ученика. Научные методы, теософия и коллективные прозрения тут бессильны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу