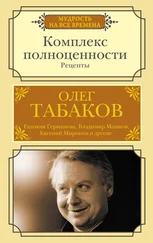С детских лет я много слышал о Великой Октябрьской. О том, как это было на самом деле, а не так, как написано в учебниках по истории СССР. Много страшных историй рассказывал брат мамы, дядя Толя – удивительный человек, настоящий русский интеллигент. В детстве, в революционные годы, дядя Толя жил на Украине. Одесская губерния попадала в черту оседлости, и еврейский вопрос был там актуален всегда. А уж после революции Петлюра, Махно, «ангелы», «архангелы» и прочие банды стреляли евреев без разбору. Для них «жид» был синонимом коммуниста. Власть менялась чуть ли не ежедневно. Дед Андрей Францевич прятал у себя еврейских детей и стариков. Дяде Толе тогда было двенадцать лет, и он хорошо помнил, как седой, словно лунь, еврейский старик с пейсами, спасаясь от бандитов, с ходу сиганул через забор высотой в полтора метра. Моя обостренная детская фантазия дорисовала картину, сделав ее физически реальной, будто я сам увидел прыгающего от страха через забор сгорбленного старика. Быть может, с тех пор и живет во мне мой принципиальный анти-антисемитизм.
Мы жили в коммуналке на втором этаже так называемого бродтовского дома на углу Мирного переулка и улицы 20 лет ВЛКСМ, ныне опять Большой Казачьей. Когда-то дом принадлежал известному саратовскому врачу доктору Бродту.
После революции его, естественно, реквизировали и устроили коммуналки.
Наша квартира состояла из семи комнат. В одну из них поселили Нелли и Эсфирь Кадышес, уплотнив важную семью поляков Ткачуков, состоявшую из Софьи Леопольдовны, Ивана Романовича, их сына Бориса, его шумной жены-полуэстонки и дочки Таньки. Ткачуки-мужчины были «технической косточкой». Иван Романович был то ли майором, то ли полковником железнодорожной службы – с усами, в выглаженных брюках, в выглаженном кителе, в изящной шинели. Его облик гармонично вырастал из того, что когда-то называлось инженерным корпусом императорской России. А в соседней комнате жили деклассированные люмпены Клюшниковы с целой кучей детей, среди которых особо выделялся Волька-даун, – хронически гулявшие, жившие широко, шумно и босо. В комнате Марии Николаевны (Колавны) и дяди Володи Кац все было связано с дяди-Володиной психиатрией. Он вел прием на дому – колдовал над элитой Саратовского облисполкома и горисполкома, людьми сильно пьющими, запойными. Я залезал под кровать и подслушивал, как он говорил, громыхая страшными басовыми раскатами: «Вы перестанете пить от первого стакана, от первой рюмки водки…» Меня так и подмывало посмотреть, движется этот стакан под волшебным взглядом дяди Володи или нет, но обнаруживать свое присутствие было бы недальновидно. Как только пациенты из комнаты выходили, дядя Володя вдруг преображался и начинал ворковать с женой тоненьким голоском: «Мусенька, Мусенька! Твой котик ждет компотик!» Пожалуй, единственной комнатой в нашей квартире, в которой я не бывал никогда, была комната Гребенщиковых. Она казалась таинственной с самого начала. Я никого не стеснялся, когда шел в сортир, оккупировал его, сидел, пыхтел, но когда мое ухо улавливало шум открывающейся двери в комнату непонятных соседей, то даже мои, так сказать, естественные отправления случались быстро и пугливо.
И совершенно очаровательно-трогательной была одиночка Маня-цыганка, Маруся, то ли воспитанница Ткачуков, то ли бывшая горничная. Когда она выросла, Ткачуки каким-то образом выхлопотали ей крохотную комнатку. Она пережила несчастный брак: рассказывали, что когда-то они с мужем работали в Монголии, потом муж погиб, и Маруся доживала свой век одна.
В коммунальной квартире всегда все на виду – кто и к кому приходит. Одинокой женщине от этого становится особенно тоскливо. Когда я впоследствии стал ходить в самодеятельность, Марусе это очень нравилось, и иногда она выкрикивала такую странную присказку: «Ой, нет в жизни счастья, любви, а я жить хочу!»
А в последней комнате жили мы: мама, я и Мирра.
Мама владела огромной комнатой в сорок пять метров, а отцу, по стечению обстоятельств, удалось заполучить двадцатиметровую комнату за стеной. Входы в родительские квартиры были через разные подъезды, поэтому их комнаты сообщались… через книжный шкаф. На верхних полках стояли книги, а внизу была дыра, через которую я свободно дефилировал из комнаты в комнату.
Меня почему-то очень манило пространство под лестницей в подъезде, ведущей с первого на второй этаж. Быть может, потому, что летом в Саратове очень жарко, а там было прохладно. Бабушка Оля постоянно твердила: «Лёленька, нельзя выходить из дома, когда темно. Там шпана под лестницей». Никакой шпаны, конечно, у нас в доме не водилось. Иногда жена не пускала пьяного соседа домой, и он ночевал там. Отчетливо помню, как позже уже сам говорил кому-то из приятелей: «Туда низя, там сапана под лестницей».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу