
Мы её уговорили, и Булат пришёл в оговоренный заранее вечер. Собрать огромную аудиторию нам не удалось. С одной стороны, не закроешь двери, а с другой стороны, своих всех не приведёшь. Короче говоря, каждый приводил по одному-два человека: больше было нельзя. И все мы там уселись. И Булат стал петь. И пел он очень хорошо.
В середине булатовского пения вдруг раздался громкий стук в наружную дверь, которую закрыли, договорившись со швейцаром. Зал затих. Булат замолк… Прозвучал наглый мерный шаг «карающих органов». И тут снующие между столами официантки зашелестели: «Инкассатор… инкассатор… инкассатор…» Стало понятно, что это был именно он. Он получил в буфете деньги и тем же мерным шагом вышел. Никого его явление в конечном счёте особенно не напугало. В том числе и Булата. И мы соответствующим образом продолжили это мероприятие.
Я не помню, чтоб мы сильно напились: денег у нас на это всё равно не было. Булату мы ничего не платили, — я знаю точно. Но всё-таки это был концерт на шестьдесят человек, худо ли, бедно ли. Потом, правда. видимо, в кафе были какие-то проблемы. Почему так говорю — потому что наши инициативы больше не встречали радушного приёма. Такой была моя первая встреча с Булатом. Но и он меня, и я его — с той встречи запомнили.
У нас не было общих посиделок. Тем не менее, был повод близко сойтись, скажем, на «Тарусских страницах», так как редактор альманаха Коля Панченко, его составители Константин Георгиевич Паустовский и Николай Давыдович Оттен, Елена Михайловна Голышева и другие причастные к этому изданию, — вся эта компания была компанией моей мамы. Эпопея «Тарусских страниц» опосредованно проходила и через нашу с мамой квартиру, через наш телефон и т. д. Мать собирала поэтическую часть издания, и, благодаря её усилиям, в нём были представлены стихи, совершенно блестящие по составу. Там были напечатаны: «Шофёр» Володи Корнилова, «Чайная» Давида Самойлова, несколько замечательных стихов Слуцкого, стихи Аркадия Штейнберга. Но с Булатом на «Тарусских страницах» мы не пересеклись. Хотя и я был частью этой тусовки, но вот компании у нас были разные. Мы не совпадали.
В это же время отец написал пьесу под названием «Четвёртый». В Москве её взялся ставить театр «Современник». Отец пришёл в театр и притащил меня. В каком смысле «притащил»? Ему было интересно: большинство актёров были примерно мои ровесники, может быть на год-два старше. И вот эта работа над «Четвёртым», — а я там работал зрителем, — сдружила меня с труппой театра. И в один прекрасный день я оказался приглашённым вместе с Галей Волчёк и тогдашним её мужем Женей Евстигнеевым (ещё Дениса не было на свете, ещё он не родился) к академику Арцимовичу. Поскольку «Современник», при всей своей невероятной нахальности, был всё же театром застенчивых ребят, и видимо, ощущение, что они идут к академику, заставило их каким-то образом искать какие-нибудь «прокладки», — меня они и взяли в качестве такой «прокладки».
Я думаю, что меня он пригласил через Галю Волчёк, но как говорится, приглашение было, разумеется, благословлено Булатом, а услышал я об этом от Гали. И вот ещё что. Я проходил в «Современнике» как знаток поэзии. Ну, и идти на встречу с поэтом, не будучи уверенным: а вдруг там возникнет что-нибудь «поэтическое», а мы не в курсе дела? — это будет неловкость. Я думаю, что элемент этого тут был. Скорее всего, так оно и было. И хотя я не могу считать себя таким большим специалистом, но память моя в этом смысле в те самые годы была феноменальная (я запоминал стихи буквально слёту, иногда с одного прочтения). Поэтому многие стихи я помню в варианте, в каком они мне изначально запомнились, а не в том, в каком потом были записаны. Бывает, вдовы поэтов на меня за это сердятся.
Встреча происходила где-то в районе Песчаных, не скажу, где точно, но район Песчаных улиц я помню. И как я потом понял, установка была на то, чтобы укрепить недавно возникшие отношения Булата с Олей, племянницей академика Арцимовича, носившей, кстати, ту же самую фамилию.
Она была необыкновенно хороша тогда. Фамилия Арцимович ей нисколько не мешала быть русской красавицей. Нас вкусно кормили. После чего Булат стал петь. Почему я это всё рассказываю — не для того, чтобы пояснить, как я оказался близок к дому Окуджавы. Дело заключается в том, что это было моё второе присутствие на таком достаточно значительном концерте Булата, и этот концерт отличался от первого радикально. Потому что у первого была задача вполне информационная — спеть о себе, рассказать о том, что ты пишешь песни. Стихов он не читал в тот день — только пел. А здесь была совершенно другая задача. И я никогда больше, слушая Булата много раз в разных залах и в разных компаниях, не слышал этого интонационного строя. Он завоёвывал женщину. Его песни для этого не приспособлены. Как талантливый человек ухитряется это делать, — я этого сказать не могу. Передать я этого не могу интонационно, обобщить этого не могу. Но каждой песней он… Ну в общем, интонация у них была как у отцовских стихов 1942 года, посвящённых Серовой. Именно такого же напора. При этом он не менял слов, естественно не менял мелодий. Как это делается?.. Когда дают концерт со сверхзадачей, совершенно не связанной с тематикой того, о чём поют, — я такое видел всего два раза в жизни. Но оба раза это делали гении. Один — актёрский гений — Ролан Антонович Быков. Другой — поэтический, песенно-интонационный. Таков был «концерт», на котором я присутствовал.
Читать дальше
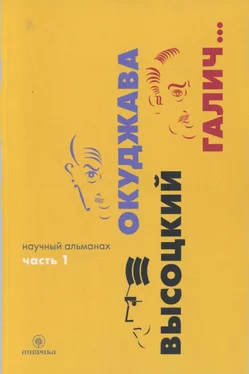








![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)



