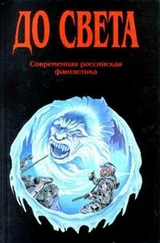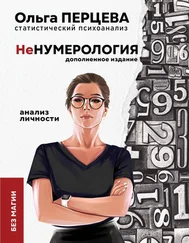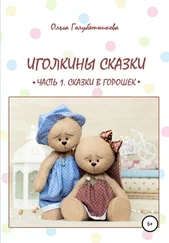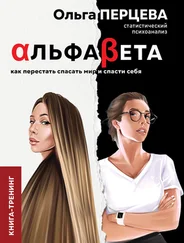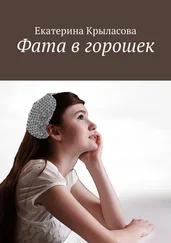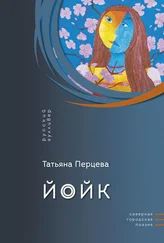Не снится мне Дархан-арык… Гастроном и рядом большое серое здание. Первый этаж правого крыла и занимал наш институт. ВНИИ «ВОДГЕО». Московский филиал института по биологической очистке сточных вод. А руководил им Карим Каримович Каримов. И жил он недалеко — на Жуковской. Еще одна лаборатория института находилась в улочках за навоийской ярмаркой, рядом с тубдиспансером. Но мне отгородили часть большой комнаты и поставили там книжные шкафы. Я была переводчиком и по совместительству библиотекарем. Основы библиотечного дела я знала. Проблем не возникло. А вот техническими переводами занялась впервые. К счастью, по тематикам химии и биологии, самым несложным для начинающего переводчика.
Коллектив был хороший, правда, свои интриги и подковерная война велись, но меня-то это никак не касалось. При моей неспособности к интригам это было благом — увязла бы.
Со мной работали молодые девушки, и вскоре у нас образовалась тесная компания, было с кем проводить время, тем более что муж уехал в аспирантуру. Хорошая была компания: Аня Ходасевич, моя одноклассница, которая позже часто приезжала ко мне из Череповца, Эдда Авдеева, которая тоже училась в сорок третьей и вышла замуж за парня, который учился со мной в параллельном классе. Сильва Эльбаум. Первых двух уже нет в живых, царство им небесное. Сильва живет в Израиле.
Вот сценка из жизни коммунистического субботника в честь дня рождения В. И. Ленина. Каждому выделено по окну. Остальные подметают и моют стены. Трое, в том числе я, стоят на подоконнике, а прохожие любуются целым цветником в окнах… И все молодые, и все красивые. Впервые я поняла, что работа может быть радостью. И работала я весело и с охотой. И в коллектор ездила за книгами, и выдавала, и статьи переводила, и не было у меня врагов, а было много друзей. И на работе, и вне! Куда мы только ни ходили: на все спектакли, все концерты в консерваторию, все новые постановки в театре Навои. Даже на приезжих французов, которые танцевали ужасно. Ходили по сцене, и это в «Лебедином»!
А мы бродили по Ташкенту, и говорили, говорили, говорили, расставаться не хотелось. Надя, вдова архитектора Эдика Фахрутдинова, того, который «Буратино» построил, а умер очень рано (жила она в соседней квартире рядом с моими родителями), ее друзья — архитекторы, физики, математики. Молодые, красивые, способные, умные… И многих уже нет, царство небесное. И один из самых моих верных и преданных друзей, Олег Орестов уже не здесь… Может быть, жив его лучший друг Валя Розамат. Не смогла его найти.
Я всех помню. Я обо всех помню.
И твердо знаю, что годы, проведенные в Ташкенте, были самыми счастливыми.
И помню, как прибежал Олег, работавший в обсерватории, такой радостный, и сказал, что нашел мне новую работу, с хорошей зарплатой, у академика Адировича, а я огорошила его новостью, что уезжаю навсегда.
Сборы, контейнеры, билеты, последняя битва за Достоевского в «Академкниге» напротив «Голубых куполов»…
И все друзья собрались на перроне. Время истекло. Поехали.
Потом я приезжала в Ташкент каждый год. А используя аспирантский отпуск — и дважды в год. Я не ездила в Крым. Не ездила на Кавказ. Не ездила в Прибалтику.
Никуда.
Только в Ташкент.
Только пройтись по тем улицам, которые еще не изменились, еще прежние, еще старые, еще свои, снова вдохнуть запах пряностей на Алайском, сунуться в знакомый букинистический на Навои…
И снова асфальт в дырочку.
И пропахшая солнцем пыль.
И цветущие иудины деревья.
И сыновнее: «Мама, когда ты в Ташкенте, у тебя такое лицо счастливое».
И тогда еще живые и родные друзья.
Мы с ними одной крови.
Ташкентской.
Ташкент, который никогда мне не снится, где он?
Даже не в снах. Только в памяти.
Ташкент, Малясова, ушедшая эпоха.
Где-то есть город, которого нет
Почему-то я всегда считала Виктора Малясова тихой заштатной улицей, где есть только один двухэтажный жилой дом — тот, в котором я росла. Оказалось, ее многие знают и любят. И постоянно вспоминают. Там прошли детство и юность. Нужно сказать, не слишком веселое детство. Я родилась в 1945 году. Мои родители бежали с Украины от немцев и два с лишним года провели на богом забытом киргизском руднике — отец был инженером-угольщиком, а их на войну не брали. Очень долго мама вспоминала, как вместе с такими же женами шахтеров бродила по горам в поисках кишлаков, где можно было обменять вещи на продукты. И с гордостью повторяла, что отец честно делил с семьей свой хлеб, который получал по карточкам. Потому что мама получала иждивенческую карточку, а сестра — детскую. Хлеб и молоко для ребенка, на которое мама выменивала часть этого хлеба, составляли весь их дневной рацион. При этом она прибавляла, что далеко не все мужчины поступали именно так.
Читать дальше
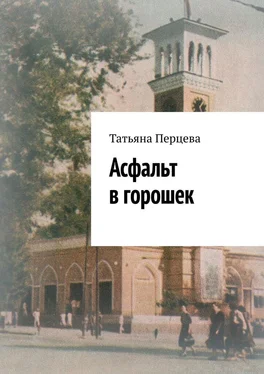


![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/28694/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest-thumb.webp)