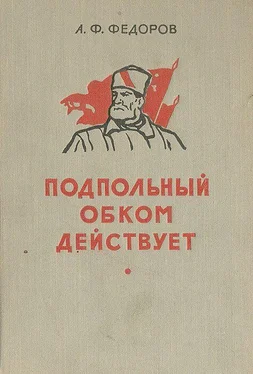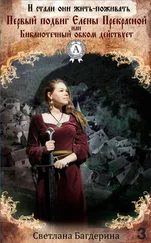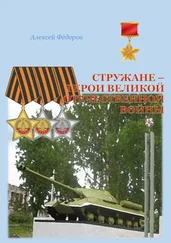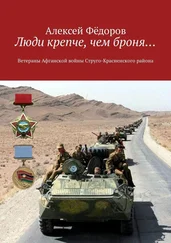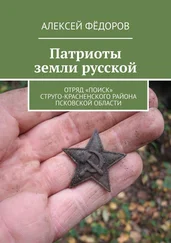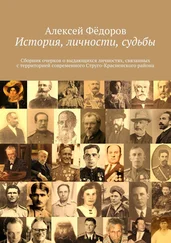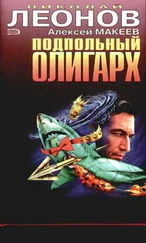Товарищ, о котором я только что упомянул, пришел в партизаны из армии. Он знал, что такое воинская дисциплина. Мы ему только напомнили, что распускаться не следует. Большинство же партизан, особенно в тот первый период, состояло из людей гражданских, глубоко штатских. Им трудно было отрешиться от привычки критиковать и обсуждать. Трудно было переменить довоенные представления о самих себе.
Выяснилось как-то, что некоторые из наших бойцов всякими правдами и неправдами увиливают от несения караульной службы и от хозяйственных нарядов. Доложили об одном весьма почтенном человеке, что он ни разу не стоял на посту.
— Да, факт — признался товарищ. — Но ведь просятся: давай, Сергей Николаевич, мы за тебя постоим. Ты человек в летах, тебе трудно…
— Благородные какие люди!
— Да оно, это верно, благородные, только дорого, черти, дерут за благородство.
— Сколько же? Какая нынче такса?
— А это смотря за что. Вот, скажем, отдежурить у продсклада — жменя махорки или два ломтя хлеба. Чистить картошку на кухне — за это немного меньше берут.
— Неужели хлеба людям не хватает? А ты-то откуда лишний берешь?
— Да, видите ли, мне персонально хватает. Курить я только здесь, в партизанах, начал. Курю немного. И ем тоже помалу…
— Понятно, раз мало работаешь, значит мало и ешь.
— И это отчасти верно. Только в хлебе-то нуждаются главным образом новички, которые из окруженцев или беглых пленных. Они наголодались, пока бродили по лесу… Ну, просто, жалко людей. Честное слово, сами просятся.
Когда его выругали и наказали, обиделся товарищ.
Всех случаев нарушений дисциплины я приводить не собираюсь. Хотя их было не так уж и много. Тогда, впрочем, и народу у нас было немного. И народ был хороший. Уже одно то, что все добровольцы, а большинство партизан еще до прихода немцев записалось в отряды, показывает, что люди хотели воевать не за страх, а за совесть. Большинство нашего областного отряда составляли индустриальные рабочие, партийные и комсомольские работники, люди, до конца преданные советскому строю. Позднее отряды пополнялись людьми, среди которых кое-кто не мог похвастать чистой совестью. Они кровью должны были смывать прегрешения перед Родиной.
В тот организационный период болезни наши были, пожалуй, болезнями роста. Их порождала неуверенность в себе, весьма смутное представление о сроках борьбы и оторванность от масс. Да, несомненно, оторванность была. Уже третий месяц отряд отсиживался в лесу, партизаны очень мало общались с населением, и жизнь и интересы населения оккупированных сел и городов им были мало известны.
Отрыв от масс, от народа мог стать гибельным для нас. Обком принял решение — ориентировать людей на продолжительные сроки партизанской борьбы. Чем скорее Красная Армия перейдет в наступление и очистит нашу область от немцев, тем лучше. Пока же надо прекратить разговоры о сроках, не переживать, не думать о том, как продержаться, а действовать.
Обком дал указание штабу подготовить серьезную наступательную операцию. Она должна стать испытанием всех качеств наших людей и нашей организации.
* * *
По заданию обкома, была послана группа товарищей в село Савенки. Группа должна была, выполняя решение обкома, связаться с населением и провести агитационно-массовую работу.
Я тоже поехал. Впервые в условиях оккупации я принимал участие в собрании крестьян. Вероятно, потому оно и запомнилось так хорошо. Позднее мне часто приходилось выступать на подобных собраниях крестьян с докладами. Но в то время все было ново.
Мои спутники тоже говорили, что странное чувство неуверенности, даже волнения было у них. Опасно? Нет, мы знали, что больших сил враг поблизости не имеет. Предварительно была разведана обстановка. Наши люди коммунисты-подпольщики и живущие в Савенках активисты — заблаговременно оповестили народ, расставили кругом дозоры. И все же мы волновались.
Беспокоило, конечно, своеобразие обстановки и новизна. Как-то нас примут? Как проводить такое собрание? Даже организационные вопросы — и те были не ясны. Следует ли, например, придать торжественность такому собранию? Нужен ли президиум? Были среди нас сторонники торжественности: это, мол, усиливает впечатление.
Еще важнее было — верно определить главную тему дня. До войны каждое собрание посвящалось конкретным вопросам. Обсуждение производственного плана колхоза, итоги социалистического соревнования бригад и звеньев, отчетный доклад правления, подписка на заем… Да мало ли что. Если даже приезжал лектор с докладом о международном положении, колхозники заранее знали, о чем будет идти речь, готовили вопросы.
Читать дальше