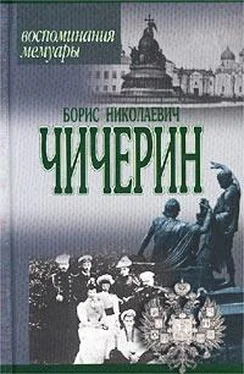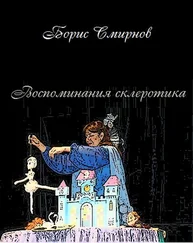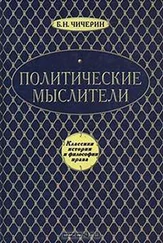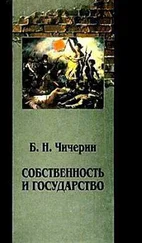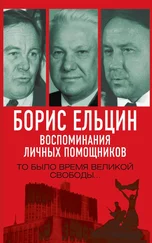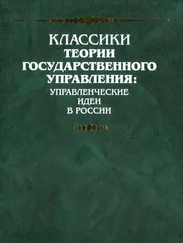Письмо имело не только быстрый, значительный и длительный резонанс, но вызвало раскол в русском обществе, часть которого поддержала Чичерина, другая, резко ополчившись на него, выразила сочувствие Герцену и солидарность с ним. Разгорелись страсти, ни одна из сторон не желала признать себя побежденной или, по крайней мере, неправой. Неожиданную оценку этой далеко зашедшей распре вынес человек, не примкнувший ни к одному из враждующих лагерей и всегда стоявший несколько в стороне -- академик А. В. Никитенко. Оценка была трезвой и подчеркнуто этической, ибо прямо указывала на объективно "охранительный" характер письма Чичерина, определившийся, помимо воли его автора, самой политической ситуацией и расстановкой сил в России. Реплика Никитенко не предназначалась для печати. 8 января 1859 г. он записал в дневнике: "...Герцена упрекают от имени всех мыслящих людей в России за резкий тон и радикализм. Это, конечно, отчасти справедливо, и Герцен вредит своему влиянию на общество и на правительство. Но возражение, ему сделанное, кажется, еще вреднее. Оно как бы оправдывает крутые меры и вызывает их" {Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. [М.], 1955. Т. 2. С. 54.}.
Время, как известно, смещает акценты и стирает обиды. Оно не смягчает лишь уколов самолюбию. Воздадим же должное Чичерину, который по прошествии многих лет смог написать о Герцене "без гнева и пристрастия", посвятив его трагической судьбе и высокому таланту проникнутые сочувствием и глубокой симпатией страницы воспоминаний.
Разрыв с Герценом предопределил охлаждение отношений с теми, кто оказался на его стороне: с К. Д. Кавелиным, И. С. Тургеневым, П. В. Анненковым. Чичерин был сдержан, независим и по врожденному свойству характера внутренне одинок. В недоброжелателях недостатка у него не было, отношения с друзьями, и прежде немногочисленными, были сложными и неровными. Им восхищались, блеск его ума ослеплял, но что-то почти всегда мешало сближению с ним, что-то не позволяло перейти ту черту, за которой начинается дружба.
В 1857 г. он познакомился с Львом Толстым, который поначалу, как и многие, необычайно заинтересовался им. Завязались тесные отношения, с частыми встречами, долгими разговорами. Через год Толстой записал в дневнике: "Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном" {Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М, 1985. Т. 21. С. 220.}. Но вместе с тем Толстой уже ощущал специфическое свойство ума Чичерина -- холодный, не согревающий блеск. Правда, поначалу Толстой приписывал это свойство самой философии: "Философия вся и его -- враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще" {Там же. С. 217--218.}. Как это было в высшей степени свойственно Толстому, он упорно пытался обнаружить ту будоражаще неуловимую, непонятную особенность Чичерина, которая лишала полноты дружеского общения, раздражала и отталкивала его. Он настойчиво стремился найти эту особенность и назвать ее, как называл он все -- вещи, предметы, состояния души. Но то, что всегда удавалось ему, на этот раз ускользало. "Слишком умный", -- написал он о Чичерине в дневнике 24 января 1858 г. Но это было не то. В той же дневниковой записи он противопоставил ему Е. Корша: "Спокойно и высоко умен" {Толстой Л. Собр. соч. Т. 21. С. 218.}. Но и это тоже ничего не объяснило. Отношения шли к неминуемому концу. Прежде всего потому, что в них не было ясности, которой так дорожил Толстой. 18 апреля 1861 г. он написал Чичерину: "Мы играли в дружбу". Ее не может быть между двумя людьми, столь различными, как мы. Ты, может быть, умеешь примирять презренье к убежденьям человека с привязанностью к нему; а я не могу этого делать. Мы же взаимно презираем склад ума и убежденья друг друга. Тебе кажутся увлечением самолюбия и бедностью мысли те убежденья, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, не удовлетворяющей моей любви к правде" {Там же. Т. 18. С. 565.}.
Чичерин провел за границей около четырех лет и вернулся в Россию, получив известие о смерти отца. В 1861 г. он был избран советом Московского университета экстраординарным профессором по кафедре государственного права. Он выразил согласие, хотя не чувствовал склонности к преподаванию. В университет влекли его воспоминания о студенческих годах и мысль о пользе воспитания молодого поколения, понимание профессорской деятельности как гражданского служения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу