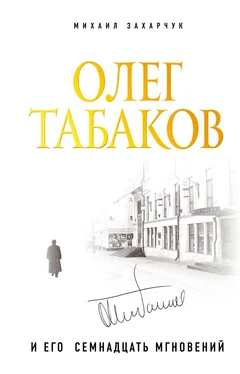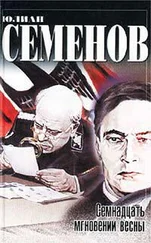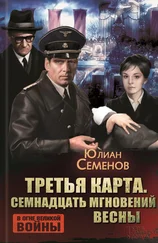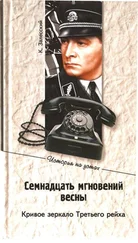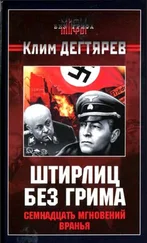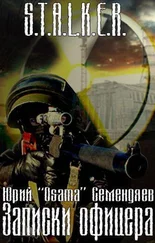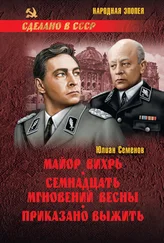«Спустя тридцать пять лет с группой учеников я оказался в Париже по приглашению Парижской консерватории, ректор которой, Жан-Пьер Микель, ныне руководит «Комеди Франсез». Мы показывали с небывалым, слегка даже пугающим нас успехом пьесу Галича «Матросская тишина». Володя Машков играл главную роль. После спектакля ошарашенные студенты и педагоги разлеглись на полу и долгое время лопотали на великом языке Расина, обсуждая спектакль. Не владея тонкостями французской речи, я предпочел тихонько удалиться в отель, где в качестве расслабляющего фона включил телевизор. По одному из каналов показывали какую-то детективную чушь. И вдруг мой взгляд остановился на чем-то мучительно знакомом: среди довольно серых персонажей показалась фигура, которая мне что-то напоминала. Я долго силился сбросить мутную пелену с памяти, но, наконец, вспомнил. Это был… сильно оплешивевший, почти облысевший Андрэ Фалькон в роли второстепенного французского детектива. До этого я не раз интересовался судьбой кумира своей молодости, но узнать ничего конкретного о нем так и не смог. А тут вдруг увидел его собственной персоной на экране – как тень из прошлого. Как грустный символ уходящего времени».
Следующий театральный сезон подарил столице Королевский Шекспировский (Стратфордский) театр, который привез «Гамлета» Питера Брука с Полом Скоффилдом. А в 1956 году Табаков лицезрел гастроли Национального народного театра Жана Вилара с замечательным «Доном Джованни». Впрочем, Олег в те поры не ограничивал свое культурное насыщение только драматическими спектаклями. В Большом театре пересмотрел весь репертуар. На многие оперы ходил, как профессор Преображенский. Помните: «Мы сегодня ничего делать не будем. Во-первых, кролик издох. А во-вторых, в Большом «Аида». А я давно не слышал, помните дуэт?.. Ко второму акту поеду. – Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – Успевает всюду тот, кто никуда не торопится».
Табаков, пожалуй, жить в молодости все же торопился. Всякий раз, когда сталкивался с доселе неизвестным ему произведением искусства, досадовал, почему это раньше он о нем ничего не слышал? И потому продолжал поглощать культурное столичное пространство с явно провинциальной жадностью. А вот теперь, оглядываясь на свое, теперь уже канувшее в Лету, прошлое, понимает, что интуитивно, наощупь действовал единственно верным методом. Иначе бы он никогда не стал тем, кто есть сегодня, если бы в молодости давал себе слабину и с прохладцей относился к постижению культуры, мира и жизни в этом бушующем мире. Другой вопрос, что и цену заплатил за это страшную – инфарктом…
Отечественный кинематограф того времени тоже не оставался вне интересов Табакова. Правда, успехов на его чахлой, насквозь заполитизированной ниве произрастало мало. Кино тогда не отражало жизни, каковой она есть, а тщетно и неуклюже показывало ее такой, какой хотелось видеть агитполитпропу. Хотя попадались редкие исключения из правил. К примеру, в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности» рассказывалось о романе крупного государственного чиновника, которого играл неотразимо-мужественный Леонид Галлис (в фильме «Два капитана» он – Николай Татаринов), с молодой женщиной Ириной, в исполнении Маргариты Анастасьевой (в фильме «Кремлевские куранты» она – дочь Забелина). Садясь в машину после работы, герой командовал шоферу: «Давай. На Малую Бронную». Там ждала его любовница. Такая малость – обычные человеческие чувства и слабости, а волновали сильно. Потому что в картине не наблюдалось отчаянной борьбы хорошего с отличным, как в «Свадьбе с приданным».
Мощное воздействие на Табакова имел итальянский неореализм. «Рим, одиннадцать часов», «Под небом Сицилии»… Вообще все, что было связано с Массимо Джиротти, Лючией Бозе, Рафом Валлоне потрясало и увлекало Олега. Благодаря этим фильмам у него изменялось само представление о правде искусства. О правде психологического бытия на сцене и на экране. ««Шептальный» реализм, как окрестили позже некоторые критики эстетику театра «Современник», вырос как раз из фильмов великих итальянцев. Стремительно, на наших глазах, менялась актерская природа, в ней неожиданно проступали черты и того непрофессионального актера, и того удивительного мальчика, которые играли в «Похитителях велосипедов» Витторио Де Сика».
Из «Большой советской энциклопедии» (БСЭ): «Школа-студия – высшее театральное училище в Москве. Организовано в 1943 году для подготовки актеров на основе идейно-творческих принципов школы Художественного театра и системы К.С.Станиславского. В школе преподавали М.Кедров, В.Станицын, А.Тарасова, В.Топорков, И.Раевский, В.Орлов, А.Карев, Г.Герасимов, Б.Вершилов, А.Грибов. Основу педагогического коллектива составляют: А.Степанова, П.Массальский, О.Ефремов, Е.Морес, В.Марков, С.Пилявская, Е.Евстигнеев, В.Шверубович (Качалов), профессора В.Радомысленский, А.Зись, В.Виленкин. Актерский факультет Школы-студии окончили А.Баталов, Е.Урбанский, Л.Губанов, В.Давыдов и другие, составившие ядро труппы МХАТа, театра «Современник», молодежного Нового драматического театра-студии, значительную часть трупп Театра им. В.Маяковского и многих театров Москвы, Ленинграда, других городов страны».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу