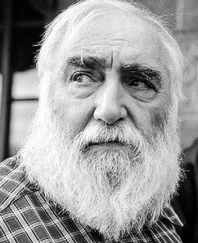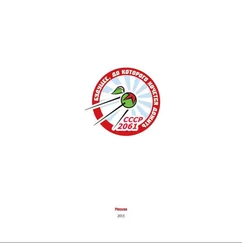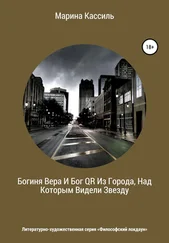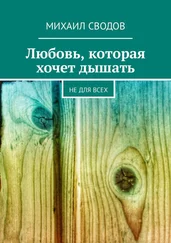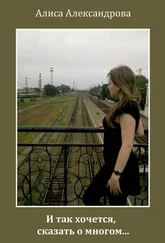Да, переводческое наследие Марковой обширно и разносторонне. Ведь она переводила на русский язык не только лирические повести древней Японии, хокку и танки таких прославленных поэтов, как Басе, Исса или Такубоку Исикава, но и современную японскую поэзию. Помимо прочего,на ее счету переводы многочисленных новелл современных японских авторов, включая новеллы Акутагавы и Сайкаку. Отдавая дань своему увлечению театром, Вера Николаевна перевела несколько драм Тикамацу и пьесы театра «Но». На ее счету также несколько сборников японских народных сказок для детей.
И каждая новая книга в обязательном порядке сопровождалась обстоятельным, развернутым авторским предисловием, в котором Маркова не только знакомила публику с интересными и значимыми событиями из истории Японии, но и ненавязчиво подготавливала своего читателя к правильному восприятию японской литературы, могущей на первых порах показаться неискушенному человеку слишком сложной или чересчур заумной. Многие из этих предисловий вполне тянут на фундаментальные научные статьи по проблемам японистики (которых, к слову, на счету Марковой тоже немало), настолько они аргументированны и содержательны, настолько точно выверены в них все научные концепции и приведенные факты. Нет, что ни говори, а вклад Веры Николаевны в развитие русско- японских культурных и литературных связей поистине уникален. А потому стоит ли удивляться, что он был по достоинству оценен и правительством Японии, которое в 1993 году наградило переводчика В. Н. Маркову орденом Священного сокровища, присуждаемым редким иностранцам за их особый вклад в популяризацию японской культуры.
И все же, говоря о переводческой составляющей творчества Марковой, нужно признать, что в длинном ряду ее свершений и побед есть один совершенно особый перевод, который, по сути, и обессмертил ее имя, навсегда вписав его во все анналы нашей отечественной культуры. Разумеется, речь идет о «Записках у изголовья» Сэй-Сёнагон, той самой книге, на которую в свое время еще совсем юной студентке посоветовал обратить внимание сам Николай Иосифович Конрад.
Не растекаясь особо мыслью по древу, как говаривали в старину (вот, кстати, еще одна курьезнейшая переводческая ошибка, случившаяся при переводе «Слова о полку Игореве» на современный русский язык, но об этом как-нибудь в другой раз), скажу лишь, что Вере Николаевне действительно удалось сотворить самый настоящий шедевр. В чем загадка столь виртуозно вдохновенного перевыражения литературного памятника Японии Х или начала XI века, судить не берусь. Но лично мне кажется, что каким-то уникальным образом сработал пресловутый гендерный принцип. Женщина переводила женщину. И не просто женщина, и не просто женщину.
Ведь как заметила сама Сэй-Сёнагон в своих «Записках», «Но мужчины, они не способны почувствовать сострадание или понять сердце женщины». А тут такая удача. Через какое-то там тысячелетие (Сущий пустяк, не так ли? Особенно, если вспомнить, что у Бога и тысяча лет как один день.), так вот, через тысячу лет в культурном пространстве нашей планеты судьба свела воедино двух женщин, обладающих почти одинаковой ментальностью. Эти две, автор «Записок» и их переводчик, одинаковы, как мне представляется, даже на уровне подсознания. Они одинаково мыслят, они одинаково смотрят на окружающий мир, который, в сущности, остался все тем же. И люди все те же, независимо от того, ходят они в кимоно или щеголяют в рваных джинсах, и проблемы, с которыми они сталкиваются, не так уж кардинально поменялись за последние десять веков.
Вот такое счастливое во всех смыслах совпадение и обеспечило столь достойный результат на выходе. Как я уже писала в очерке о Сэй-Сёнагон, каждая строка буквально поет под пером переводчика, заставляя читателязабывать о том, что он держит в руках переводную книгу. Вы только вслушайтесь в эту музыку слова!
Холодом-холодом вея,
Стелется тонкий ледок.
Или вот еще отрывок, живописное описание зимнего пейзажа на излете ночи.
«Даже самые жалкие хижины казались прекрасными под снежной пеленой. Они так сверкали в лучах предрассветного месяца, словно были крыты серебром вместо тростника. Повсюду виднелось такое множество сосулек, коротких и длинных, словно кто-то нарочно развесил их по краям крыш. Хрустальный водопад сосулек! Никаких слов не хватает, чтобы описать великолепие этой картины».
Но вот, как оказалось, нужные слова нашлись не только в японском языке, но и в русском тоже.
Читать дальше