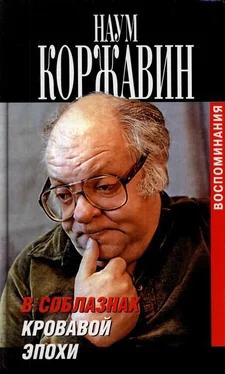Исчезли из моей памяти и почти все подробности нашего путешествия. Порядок был общим, утвержденным управлением по перевозкам МВД. Всем выдали хлеб, немного сахара и сухой паек — соленую кету или горбушу (грубая форма того, что в Америке называется salmon). Издевательской цели это не имело, но после соленой рыбы обычно очень хочется пить. А удовлетворить эту потребность конвой способен был не всегда: слишком много было подопечных — гораздо больше, чем можно запасти воды. Просьбы «Начальник, дай водички… Терпеть невозможно» раздавались отовсюду. Обращение «начальник» к рядовому конвоиру было, как нам казалось, нашим хитрым изобретением, но, как я потом понял, столь же изобретательны бывали все зэки — а как еще обращаться, если просишь? «Гражданин надзиратель»? По-моему, «начальник» было даже более по-человечески. Сначала наши просьбы удовлетворялись, но по мере истощения водных запасов — все неохотней. Потом вообще предлагали потерпеть до следующей большой станции. Нельзя сказать, чтобы конвоиры были всегда вежливы, работа эта к выработке хороших манер и уважения к людям не располагала. Да и управиться с таким количеством разношерстного народа тоже непросто. Но особого желания издеваться или мучить я у них тоже не припомню. Действовали по инструкции. Когда получали воду, исправно поили.
Хохмы иногда были с другой стороны. Один конвоир-украинец, когда к нему сильно пристали с водой, разозлился и гаркнул:
— Что вы тут разгуделись, як бджолы!..
Эти «бджолы» привели всех в восторг, показались забавными — вот, дескать, кретин, простого слова выговорить не может. Между тем «бджолы» — это вполне нормативное украинское слово, означает «пчелы», и смеяться тут было не над чем. Впрочем, смеявшиеся понятия не имели об украинском языке.
Один из надзирателей, молодой парень, относился к арестантам лучше других, всегда когда мог, старался помочь. И однажды, когда рядом не было его товарищей, он сказал нам тихо:
— Я позапрошлым рейсом своего брата отвез в лагерь. Что я мог? Купил ему хлеба, дал какие-то вещи… И — простились.
Вспомнилось в этой связи мне единственно уцелевшее в памяти четверостишие из длинной-длинной песни о тяжкой лагерной доле, которую года через два с половиной я услышал в вагоне, в котором возвращался из ссылки. Пели ее лагерные «мамки», освобожденные по этой причине специальным указом:
Там тягостен труд заключенных,
Там сын охраняет отца.
Он тоже свободы лишенный,
Он должен стрелять в беглеца.
По дороге на больших и малых станциях все время происходила какая-то суетня, конвоиры кого-то принимали и рассаживали, по-видимому, прихватывали местных осужденных и репрессированных. Но нас это не касалось, у нас и так был сверхкомплект, и мы ехали своим первоначальным коллективом «политиков». На следующий день часа в четыре пополудни прибыли в Казань. В Казани наш вагон тотчас после остановки поезда подхватила «кукушка» и отвезла куда-то в укромное место, где вдали от честных советских граждан и были произведены все «погрузоразгрузочные» работы. После чего перед самым отходом поезда та же «кукушка» отвезла нас обратно и поставила на то же место, в хвост состава. Поезд двинулся и повез нас дальше. В Новосибирск, как я полагал, и куда поезд действительно следовал. Но в Свердловске нас от него отцепили. Сначала все было как в Казани — такая же «кукушка» так же отвезла наш вагон в укромное место. Но дальше все пошло по-другому, нам всем без исключения велели выгружаться. Путешествие мое временно прервалось.
Укромное место, где нас выгрузили, представляло собой, как и в Москве, площадку у путей, которой, если мне не изменяет память, так же заканчивался какой-то обыкновенный «жилой» переулок. Впрочем, внешняя обстановка помнится мне смутно. Помню только то, что происходило. Здесь опять, как в Москве, — процедура эта везде была одинакова — один конвой стал сдавать нас другому по списку. Из подследственного арестанта, которого МГБ вынуждено было ломать персонально, я, как и все вокруг, прочно перешел в безликую (согласно специфике ГУЛАГа) категорию зэков. Нас куда-то повели колонной, велев всем в каждом ряду взять друг друга под руки, как это делают влюбленные. Это было не самовольным издевательством конвоиров, а буквальным исполнением инструкции ГУЛАГа. Я не могу вспомнить, куда при этом девались наши вещи — неужто погрузили на что-то? Или мы их все равно в руках держали — так сказать, из-под локтя соседа? «Своих» (из нашего купе) я в этой сутолоке быстро, хоть и временно, потерял. Точнее, они, как и я, растворились в каком-то странном для меня человеческом море. Я тогда не знал и не понимал, что столкнулся с живой историей народа.
Читать дальше