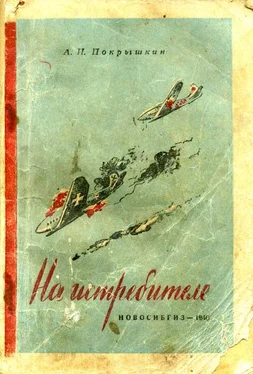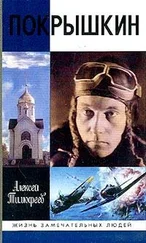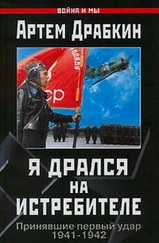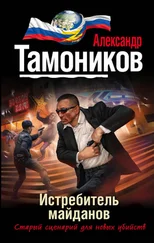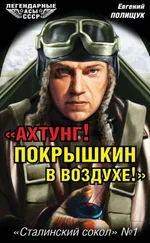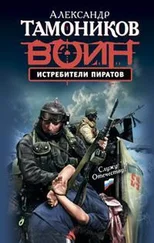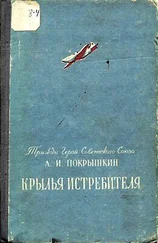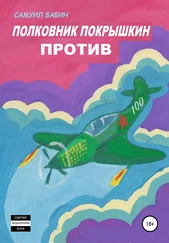Тактика борьбы в воздухе не есть нечто застывшее, данное раз и навсегда. Она всё время видоизменяется, совершенствуется. То, что было хорошо вчера, завтра уже может оказаться устаревшим. Таков закон авиации — рода войск, вооружённого быстро прогрессирующей техникой. Кто-то из лётчиков нашей части неплохо заметил:
— Всем нам следует думать так, будто «завтра» уже наступило сегодня.
Случалось, однако, и иначе. Некоторые лётчики, добившись первых побед, считали, что им учиться уже нечему. С излишней самоуверенностью они свой частный опыт ставили превыше всего и не видели, не хотели замечать, что жизнь уже обгоняет их — ставит в хвосте событий. Такие люди, к счастью, были редким явлением и, как правило, в нашей части не уживались. Они встречали энергичное, решительное осуждение всего коллектива и под его воздействием вынуждены были расставаться со своими негодными взглядами.
Встречались — и гораздо чаще — лётчики иного склада. Преимущественно это были молодые, храбро дерущиеся с врагом пилоты. Они не особенно задумывались о причинах своих успехов, случавшиеся поражения рассматривали как неизбежность войны, не приучали себя заглядывать в ближайшее будущее, жили, что называется, только сегодняшним днём.
— Расчёты… Планы… — говорили они. — Да разве можно заранее продумать весь бой? Дело решают секунды. В бою нужно своего рода вдохновение. Увидел противника — бей его, как умеешь: сверху, снизу, в хвост, в лоб…
Конечно, они ошибались, эти молодые воздушные бойцы, воевавшие так, как они говорили — сгоряча. Но нужно ли было осуждать их так же сурово, как мы осуждали отдельных лётчиков, всерьёз заболевших зазнайством? Молодых, может быть даже иной раз довольно безрассудных, пилотов надо было учить, прививать им другие навыки, помочь им заменить излишнюю горячность здравой, точной оценкой обстановки. Подавляющее большинство молодёжи училось охотно, с подлинным творческим огоньком. Многие из них впоследствии стали истребителями первого класса.
Малоискушённую в тонкостях воздушного боя молодёжь я старался обучать и в воздухе и на земле. Моя землянка на полевом аэродроме шутливо именовалась «конструкторским бюро». Стены её были увешаны схемами и чертежами манёвров истребителей. Всю войну со мною кочевал альбом воздушного манёвра. Он пополнялся новыми фигурами, идеями и мыслями, возникавшими в процессе боёв. Альбом открывался девизом: «Истребитель! Ищи встречи с противником. Не спрашивай: сколько противника, а — где он?»
В альбом уже был занесён манёвр с восходящей спиралью. В процессе боёв возник новый манёвр ухода под трассу противника. История его такова. Лётчики соседнего полка получили новые машины. Пролетая над нашим аэродромом, они приветствовали нас блестящим каскадом фигур высшего пилотажа. Один из пилотов «крутнул бочку». Но вместо этой фигуры у него получилась полубочка с зарыванием машины и потерей высоты. Произошло это случайно, как бывает иногда у начинающих лётчиков.
Эта фигура — неправильная бочка с потерей высоты — заинтересовала меня и подтолкнула к созданию нового манёвра. Замысел был таков: в случае, если враг зайдёт мне в хвост, я ухожу под трассу его пуль бочкой. Поднявшись в воздух, я сделал бочку. Получилось. Нарисовал схему. Выходило. Эта фигура долгое время занимала моё воображение. Иногда я ловил себя на том, что ладонями рук делал бочку, разыгрывал воздушный бой. Известно, что лётчики любят «разговаривать» с помощью рук. Самые замысловатые манёвры в воздухе они могут изобразить то плавным, то резким движением ладоней.
Когда я показал свой чертёж лётчику Фигичеву, он высмеял меня: «Ерунда!». Но я верил в манёвр.
Оправдал он себя и в бою. Три «мессера» пытались зажать меня. Атакуя ведущего, я вдруг услышал по радио голос напарника:
— Вас атакуют сзади.
Я не стал оглядываться. Почти инстинктивно сделал бочку и потерял высоту. Немец пронёсся надо мной. Манёвр с уходом под трассу удался!
Однако это был оборонительный приём. А как сделать его средством атаки? Ведь любой манёвр истребителя обязательно должен содержать в себе дух наступления.
«Отец русской авиации» профессор Н. Е. Жуковский — человек дерзновенных мыслей, глубокого анализа, больших практических дел — в своё время так сформулировал свой метод: «Качественный эксперимент — теория — количественный опыт — выход в практику». Иными словами: сначала нужно путём опыта получить нечто новое, затем подтвердить опыт убедительным расчётом, многократно проверить расчёт в серии опытов, и только после этого, внеся все поправки, приступать к широкому практическому осуществлению найденного нового.
Читать дальше