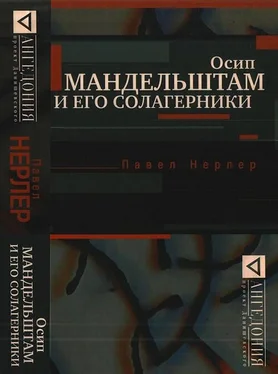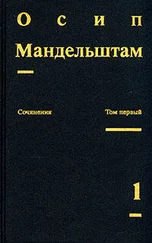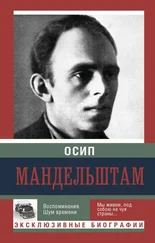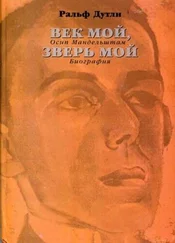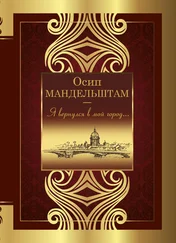А еще там был комод, набитый рукописями, фотографиями и письмами Хлебникова. Харджиев перманентно готовил к изданию его стихи и, огорченно сравнивая оригиналы с уже сделанными публикациями, язвительно ругал редакторов-конкурентов. Читать рукописи Хлебникова, сетовал он, невероятно трудно… Занятый своими мыслями Мандельштам к этому разговору не прислушивался, — а зря: ведь он находился — еще не в руках, но в гостях — у своего будущего редактора!..
Из Воронежа приезжала Наташа, а из Ленинграда — Рудаков. Обоих гостей хозяева водили к Эмме Герштейн, на Щипок (дом 6/8), в белый высокий дом с террасой в тенистом саду больницы имени Семашко, где в казенной квартире главврача жил ее отец, главврач Григорий Моисеевич [32]. Наташа запомнила удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, а в глубине письменный. Стоя у стола, оживленно разговаривали и, почему-то стоя, попивали сухое вино и закусывали сыром.
Заглянули и к Марии Вениаминовне Юдиной, чью игру Мандельштам очень любил.
Зная Наташино восхищение стихами Пастернака (а их она ставила не ниже мандельштамовских!), О. Э. повел ее к Борису Леонидовичу, но тот был в отъезде. Не оказалось в Москве и Михоэлса, которого О. Э. нежно и восторженно любил.
Гулять с О. Э. и Н. Я. по их Москве было до чрезвычайности интересно и приятно, но угнетала искусственность и неприкаянность такого времяпрепровождения, ведь оба были здесь нелегалами и изгоями, без крыши над головой и без работы. В Воронеже, в ссылке, и то были и жилье, и работа…
5
И все-таки савёловское лето — с частыми наездами в Москву, с влюбленностью в Лилю Попову и адресованными ей и не только ей стихами, с приездами время от времени друзей (Наташи и Яхонтова с Поповой), — было сравнительно благополучным и не то чтобы беззаботным, но каким-то бодрым и обнадеживающим.
Первые раскаты Большого террора, уже вовсю громыхавшего в столицах и промышленных центрах, как бы и не доносились до кимрской глуши, и только газеты в чайной не давали расслабиться.
Н. Я. Мандельштам вспоминает некую командировку на канал Москва — Волга, устроенную для Мандельштама Лахути. Понятно, что такая командировка не была долгой, а скорее всего — и вовсе однодневной. Вероятней всего, она была как-то приторочена к 15 июля — дате открытия канала для движения судов.
Написанный тогда по впечатлениям командировки «канальский» стишок был уничтожен Н. Я. в Ташкенте — с благословения Ахматовой. Остальные же написанные тогда стихи почти все пропали при аресте — лишь несколько уцелело в архивах С. Рудакова и Е. Поповой.
Все лето — и в Москве, и на Волге — Мандельштам был одержим идеей своего поэтического вечера в Союзе писателей. Во-первых, из памяти еще не выветрился оглушительный успех вечеров в Москве и Ленинграде на стыке 1932 и 1933 гг. Во-вторых, ему казалось (и чудесный опыт «сталинской премии» только укреплял его в этом), что спасительна не затерянность в толпе, а именно выделенность в ней. Люди и редакторы услышат его стихи, схватятся за голову и тут же станут наперебой предлагать публикации и работу. Отсюда та энергия и напор, с которыми О. М. бомбардировал Союз письмами и звонками. Сама идея вечера нравилась и Гасему Лахути, чья элементарная приветливость, на фоне холодной враждебности Ставского, уже казалась добрым знаком.
Но, видимо, самостоятельно решить такой государственный вопрос, как вечер Мандельштама, никто в Союзе писателей не мог. Когда же наконец 14 октября решение было рождено и спущено, то звучало оно скорее издевательски: вечер разрешить, но назначить — на завтра!
14 октября кто-то из Союза позвонил Евгению Яковлевичу и попросил срочно передать Мандельштаму о вечере. До этого брат Н. Я. не слишком-то верил в эту идею фикс свояка, но тут, не полагаясь на телеграф, он бросился на вокзал и последним поездом приехал в Савёлово.
Назавтра все трое выехали первым поездом в Москву и в назначенный час пришли в Союз. На стенах — никаких объявлений, все комнаты в клубе закрыты, никого из начальства (даже Лахути) не было, а из секретарш никто ничего определенного про вечер не знал («что-то слышали…»). Фиаско, облом!
Бросились к телефону — узнавать, а рассылались ли повестки. Шкловский не получал, но посоветовал позвонить кому-нибудь из поэтов — приглашения часто рассылались только по секциям. Набрали Асеева, и тот ответил, что как будто что-то слышал, но что разговаривать не может, ибо торопится в Большой на «Снегурочку». Больше никому звонить не стали.
Читать дальше